«Нулевой пациент» антиутопий
Почему Замятина считают отцом антиутопий и как он повлиял на зарубежных авторов
Текст
подтекст Разбор
Александра Токарева
15 мая 2025
Обложка
Надежда Фомина
Евгений Замятин — не первый писатель-антиутопист, но его роман «Мы» стал отправной точкой для развития зарубежной традиции. Кто писал антиутопии до Замятина, как он стал учителем для Джорджа Оруэлла и какие авторы обращались к идеям российского писателя?
- Александра ЗиновьеваДоцент кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ
Запись 1-я. Диалог культур. Замятин и другие
Понятие «утопия» в культуру и литературу ввёл философ и писатель-гуманист Томас Мор. В одноимённом сатирико-философском произведении 1516 года он описал видение лучшего общества — жизнь в вымышленном островном государстве Утопия. Страну автор противопоставил несправедливому, полному греха и насилия европейскому миру.
Жанр произведения — политическая сатира. Первая часть представляет разговор автора-повествователя с Петром Эгидием, который был соратником Мора, и путешественником Рафаэлем Гитлодеем.
Западноевропейские мыслители выразили собственные утопические представления. Франко-швейцарский философ Жан-Жак Руссо выдвигает идею абсолютной свободы человечества, «страждущего в цепях». Эту концепцию переосмысляет английский социолог и правовед Джереми Бентам. Он предполагает, что счастье человека связано с интересами большинства, и разрабатывает проект «Паноптикума» — учреждения, где заключённые находятся под постоянным наблюдением, не зная, кто за ними смотрит. Мысли Руссо и Бентама повлияли на появление жанра антиутопии в XIX веке.
Исследователи творчества Евгения Замятина предполагают, что на создание романа «Мы» писателя мог вдохновить рассказ-размышление английского сатирика Джерома К. Джерома «Новая утопия» 1891 года. Это один из первых экспериментов в жанре антиутопии.
«Но пальма первенства в формировании утопического жанра, конечно, у Герберта Уэллса и его романов „Машина времени“ 1895 года и „Когда спящий проснётся“ 1899 года. Они определяют первоначальные границы жанра. Второй по значимости, кто произвёл на русского писателя впечатление, — это Джек Лондон и его роман „Железная пята“, но это уже 1908 год», — говорит эксперт.
Жанр произведения — политическая сатира. Первая часть представляет разговор автора-повествователя с Петром Эгидием, который был соратником Мора, и путешественником Рафаэлем Гитлодеем.
Западноевропейские мыслители выразили собственные утопические представления. Франко-швейцарский философ Жан-Жак Руссо выдвигает идею абсолютной свободы человечества, «страждущего в цепях». Эту концепцию переосмысляет английский социолог и правовед Джереми Бентам. Он предполагает, что счастье человека связано с интересами большинства, и разрабатывает проект «Паноптикума» — учреждения, где заключённые находятся под постоянным наблюдением, не зная, кто за ними смотрит. Мысли Руссо и Бентама повлияли на появление жанра антиутопии в XIX веке.
Исследователи творчества Евгения Замятина предполагают, что на создание романа «Мы» писателя мог вдохновить рассказ-размышление английского сатирика Джерома К. Джерома «Новая утопия» 1891 года. Это один из первых экспериментов в жанре антиутопии.
«Но пальма первенства в формировании утопического жанра, конечно, у Герберта Уэллса и его романов „Машина времени“ 1895 года и „Когда спящий проснётся“ 1899 года. Они определяют первоначальные границы жанра. Второй по значимости, кто произвёл на русского писателя впечатление, — это Джек Лондон и его роман „Железная пята“, но это уже 1908 год», — говорит эксперт.
Двадцатый век стал временем крупных войн, поиска Бога, кризиса идентичности в западных странах. Желание осмыслить произошедшее и понять место человека в новом мире побуждало писателей искать новые формы выражения. Зиновьева ссылается на английского литературного критика Фрэнка Кермоуда, который считал, что с исчезновением духовного жанра виденияⓘ и пророчества «религиозные запросы» в западноевропейской традиции приобретают иной вид. Размышления о будущем человечества рождают «пугающую и парадоксально притягательную антиутопическую модель».
ⓘ
Видение — литературный средневековый жанр. Центральным образом в нём становится ясновидец, который путешествует в загробный мир и рассказывает об увиденном.
Видение — литературный средневековый жанр. Центральным образом в нём становится ясновидец, который путешествует в загробный мир и рассказывает об увиденном.
В антиутопии писатель накладывает на литературную основу определённые ожидания общества и, используя иронию, представляет условно отдалённое будущее. В результате между вымышленным миром и читателем сохраняется дистанция, но при этом последний ощущает связь с персонажами.
“
Надо помнить, что антиутопия — это актуализированные в середине XVIII века и созревшие в конце XIX века в литературный «плод» дискуссии о формировании нового человека.
Понятие «утопия» ввёл Томас Мор, написав в 1516 году одноимённое произведение. Название стало нарицательным для всего жанра. Антиутопии появились только в XIX веке. Идеи для будущих сюжетов озвучили философы. Писатели вплели их в литературную канву и, добавив иронию, представили свой взгляд на будущее.
В сочинениях Уэллса, Джерома и Лондона темы равенства, свободы и технического прогресса предстают в пародийно-ироническом ключе. Творчество писателей повлияло и на Замятина.
«Роман „Мы“ — самая моя шуточная и самая серьёзная вещь», — писал Замятин в автобиографии.
«Роман „Мы“ — самая моя шуточная и самая серьёзная вещь», — писал Замятин в автобиографии.
Запись 2-я. Проверка идеалов. Тройное дно
В 1908 году Замятин стал морским инженером и два года работал преподавателем на кораблестроительном факультете. В 1916 году он уехал в командировку в Англию, где проектировал российские ледоколы. Этот опыт писатель переложит на главного героя «Мы» Д-503 — инженера и строителя «Интеграла».
Жизнь в Великобритании повлияла на автора: он в совершенстве выучил язык, стал одеваться с лоском и увлёкся англоязычной литературой. По словам Зиновьевой, Замятин был англоманом.
Жизнь в Великобритании повлияла на автора: он в совершенстве выучил язык, стал одеваться с лоском и увлёкся англоязычной литературой. По словам Зиновьевой, Замятин был англоманом.
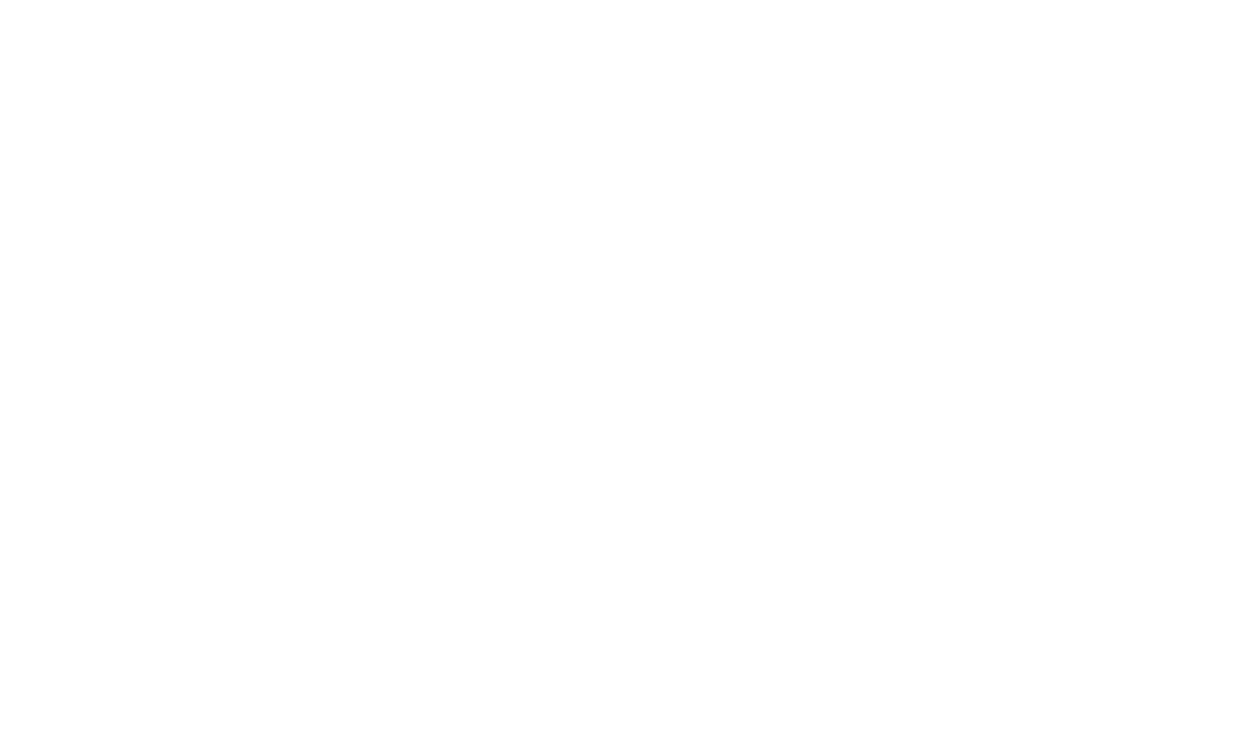
Замятин считал общество Великобритании «механистическим». Его притягивала культура другой страны и новое поле для творчества, но отталкивала любовь англичан обсуждать только повседневные дела и нежелание выходить за границы обыденного. Фото: theguardian.com
Несмотря на любовь к Англии, Замятин вернулся в Россию в 1917 году. Он был большевиком, близким к левым эсерам, и верил в революцию, но по приезде столкнулся с жестокой реальностью. Писателю пришлось проверять советские и личные идеалы в «Мы».
Роман написан в 1920-е годы. Замятина вдохновили технологический прогресс в Англии, знакомство с творчеством Герберта Уэллса и размышления о том, как технологии меняют природу человека.
«Мы» — одновременно и ироническая авторефлексия, и диалог с писателями-предшественниками, и памфлет. Замятин создаёт единый многослойный текст — произведение, которое читатель может по-разному интерпретировать, выделяя в нём разные уровни понимания, где «говорит о будущем, пока смотрит назад». Это роман с двойным, а то и с тройным дном. Читатель видит одновременно политическую составляющую, философские размышления и любовную линию.
Если Уэллс показывает жизнь людей, «бесконечно ушедших друг от друга в ходе классовой эволюции», то Замятин говорит о разных социальных группах. Английский писатель описывает обитателей подземелья и тех, кто живёт на поверхности — одни становятся жертвами других. Роман «Мы» рассказывает об Едином Государстве, правителем которого является Благодетель. Остальные живут по его законам, зачастую весьма абсурдным. Это произведение о подчинении людей центру и попытке сопротивляться системе.
Одновременно с мыслями о новом мире в романе можно увидеть критику и самокритику. Замятин включает в повествование пережитые им события, размышляет о строительстве нового мира, о будущем человечества. Религиозный поиск писателя приобретает иногда неузнаваемую форму.
Роман написан в 1920-е годы. Замятина вдохновили технологический прогресс в Англии, знакомство с творчеством Герберта Уэллса и размышления о том, как технологии меняют природу человека.
«Мы» — одновременно и ироническая авторефлексия, и диалог с писателями-предшественниками, и памфлет. Замятин создаёт единый многослойный текст — произведение, которое читатель может по-разному интерпретировать, выделяя в нём разные уровни понимания, где «говорит о будущем, пока смотрит назад». Это роман с двойным, а то и с тройным дном. Читатель видит одновременно политическую составляющую, философские размышления и любовную линию.
Если Уэллс показывает жизнь людей, «бесконечно ушедших друг от друга в ходе классовой эволюции», то Замятин говорит о разных социальных группах. Английский писатель описывает обитателей подземелья и тех, кто живёт на поверхности — одни становятся жертвами других. Роман «Мы» рассказывает об Едином Государстве, правителем которого является Благодетель. Остальные живут по его законам, зачастую весьма абсурдным. Это произведение о подчинении людей центру и попытке сопротивляться системе.
Одновременно с мыслями о новом мире в романе можно увидеть критику и самокритику. Замятин включает в повествование пережитые им события, размышляет о строительстве нового мира, о будущем человечества. Религиозный поиск писателя приобретает иногда неузнаваемую форму.
“
Нет такого, что вдруг выросла тоталитарная жёсткая система и одновременно против неё созрел протест. Что могло вырасти, оформиться окончательно к двадцатому году? Это революционный год, всё только в немыслимом, завораживающем многих участников трагических событий виде. Антиутопия Замятина рождается именно в такой экзистенциально критической ситуации.
Антиутопия — это не только история о «плохо устроенном обществе», где подавляется личность, но и о всевластном Эросе,
боге и стихии любви в древнегреческой мифологии и философии.
«Любовная интрига, некий адюльтер, в таком мире приобретает особое значение. То, что близко людям любого времени и меньше всего подвластно рациональному контролю, — сексуальная энергия, человеческое либидо. Любовная материя связана с фрейдовскими и юнгианскими идеями, представлениями психоаналитического толка», — говорит эксперт.
боге и стихии любви в древнегреческой мифологии и философии.
«Любовная интрига, некий адюльтер, в таком мире приобретает особое значение. То, что близко людям любого времени и меньше всего подвластно рациональному контролю, — сексуальная энергия, человеческое либидо. Любовная материя связана с фрейдовскими и юнгианскими идеями, представлениями психоаналитического толка», — говорит эксперт.
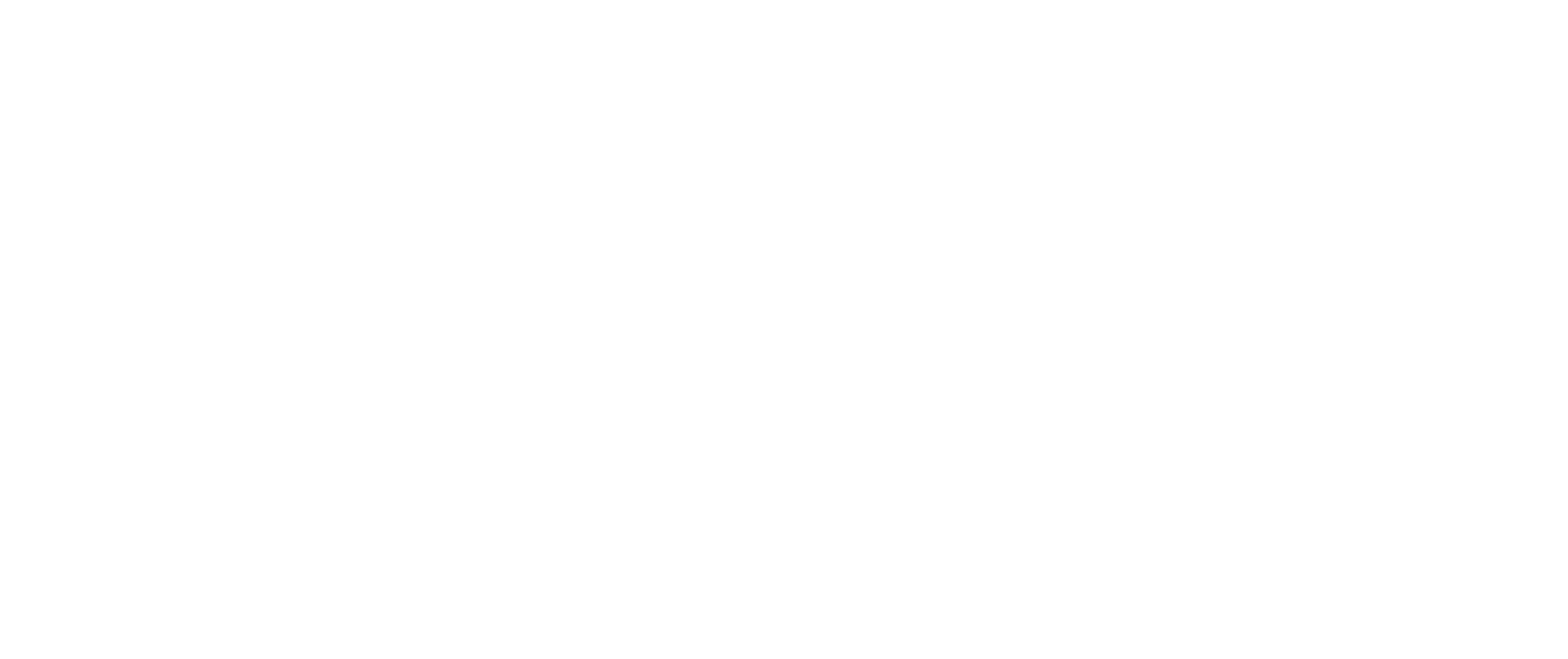
Любовь определяет человека в мире антиутопии, остаётся последним бастионом личности перед контролем тоталитарного общества. На фото — герои фильма «МЫ» (2022): Д-503 и И-330. Фото: kinopoisk.ru
Роман Евгения Замятина соединил в себе черты антиутопии, которые сейчас считаются классическими: пародийно-ироническое начало; темы свободы, цензуры, тоталитаризма; попытку представить возможное будущее; классовые, сословные и иные различия в обществе; любовную линию.
Запись 3-я. Взгляд в зеркало. Цикличность
В 2011 году издательство «Мир» в Санкт-Петербурге выпустило полную версию романа с комментариями и материалами об истории создания произведения. В работе говорится, что в 1922 году произведение готовили к публикации в России, но почти сразу запретили по политическим соображениям. На тот момент берлинский издатель уже отправил «Мы» американскому партнёру. Впервые роман опубликовали в 1924 году в переводе. После книгу выпустили на чешском и французском языках.
“
Французский перевод после Второй мировой войны читает Джордж Оруэлл. И он на него производит впечатление совершенно оглушительное, как электрический разряд. Через несколько недель, буквально закончив чтение «Мы» на французском, Оруэлл садится за сочинение своего романа «1984».
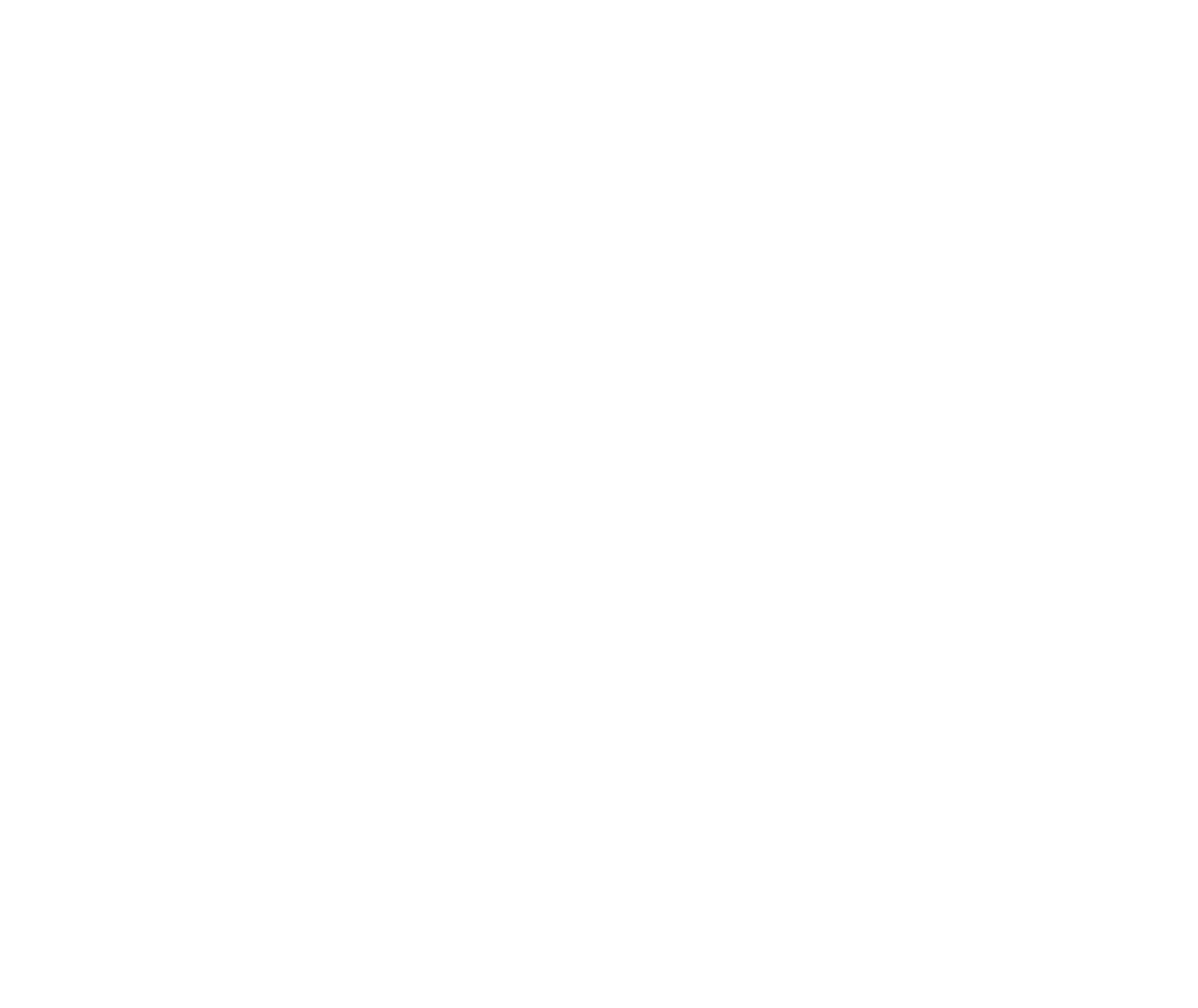
На волне успеха романа «1984», который был опубликован в 1949 году, Оруэлл объявляет Евгения Замятина основателем жанра антиутопии и своим учителем. Фото: Вернон Ричардсон, pushkinhouse.org
Некоторые критики, прочитавшие роман «Мы» по его рекомендации, отмечали, что Оруэллу не хватает «тонкости иронии», «блеска обобщения», а из замятинского текста автор «1984» сделал мелодраму.
Позже Оруэлл говорил, что и Олдос Хаксли вдохновлялся Замятиным, хотя роман «О дивный новый мир» 1932 года написан в довоенное десятилетие. Это делает произведение ближе к «Машине времени» Уэллса.
Позже Оруэлл говорил, что и Олдос Хаксли вдохновлялся Замятиным, хотя роман «О дивный новый мир» 1932 года написан в довоенное десятилетие. Это делает произведение ближе к «Машине времени» Уэллса.
После Второй мировой войны французский вариант романа «Мы» прочитал Джордж Оруэлл и назвал Замятина своим учителем. Критики считали, что «1984» Оруэлла похож на мелодраматическую версию замятинского текста.
Произведение Замятина можно определить и как роман-памфлетⓘ. Основная мысль жанра — политического документа: «никто никогда не сможет договориться, о чём оно».
Роман-памфлет Оруэлла «1984» считают примером «партийной» литературы. «О романе „1984“ говорили, что он показывает советскую Россию, создаёт пародию на СССР сталинского периода. Другие говорили, что произведение — больше про западное общество. И так до бесконечности. Это называется, „смотрите на себя в зеркало“», — добавляет эксперт.
Замятин также затронул в романе тему эротического влечения. Она была близка многим авторам, но, по словам эксперта, в жанре антиутопии её «связал» именно Замятин.
«Вспомним хотя бы систему „розовых билетов“ [талоны на уединение или „право на секс“ в романе „Мы“ — прим. „Подтекста“]», — замечает Зиновьева.
Исследователи творчества Замятина до сих пор спорят, почему роман считается центральным произведением жанра. С одной стороны, он имел успех на Западе, где его перевели на несколько языков. С другой, соединил в себе ключевые черты антиутопии и окончательно сформировал её как жанр.
Роман-памфлет Оруэлла «1984» считают примером «партийной» литературы. «О романе „1984“ говорили, что он показывает советскую Россию, создаёт пародию на СССР сталинского периода. Другие говорили, что произведение — больше про западное общество. И так до бесконечности. Это называется, „смотрите на себя в зеркало“», — добавляет эксперт.
Замятин также затронул в романе тему эротического влечения. Она была близка многим авторам, но, по словам эксперта, в жанре антиутопии её «связал» именно Замятин.
«Вспомним хотя бы систему „розовых билетов“ [талоны на уединение или „право на секс“ в романе „Мы“ — прим. „Подтекста“]», — замечает Зиновьева.
Исследователи творчества Замятина до сих пор спорят, почему роман считается центральным произведением жанра. С одной стороны, он имел успех на Западе, где его перевели на несколько языков. С другой, соединил в себе ключевые черты антиутопии и окончательно сформировал её как жанр.
ⓘ
Роман-памфлет соединяет в себе черты большого художественного произведения со сложным сюжетом и публицистического текста с социально-политическим обличением, иронией и сатирой.
Роман-памфлет соединяет в себе черты большого художественного произведения со сложным сюжетом и публицистического текста с социально-политическим обличением, иронией и сатирой.
Запись 4-я. «Ученики»-классики. Вдохновлены Замятиным
Среди зарубежных писателей не только Оруэлл открыто признавал Замятина своим учителем. Таким автором был и Курт Воннегут, который написал «Механическое пианино» в 1952 году. Рэй Брэдбери при создании романа «451 градус по Фаренгейту» тоже во многом ориентировался на российский роман. Тома Вулфа с Замятиным связывает любовь к хлёсткой иронии.
Писатели вели стилистический диалог с российскими и западными предшественниками. Замятин имел крепкую связь с русской литературной традицией второй половины XIX — начала XX веков. У западных авторов этого либо не было, либо проявлялось в меньшей степени.
Писатели вели стилистический диалог с российскими и западными предшественниками. Замятин имел крепкую связь с русской литературной традицией второй половины XIX — начала XX веков. У западных авторов этого либо не было, либо проявлялось в меньшей степени.
“
Надо ещё учесть специфический ум Замятина. Мы имеем дело с писателем, для кого механизмы, производственное планирование, строгие математические формулы, а потом поиск души среди разнообразных шестерёнок — часть биографии. И не мир будущего или мир антибудущего такой, а сам он, человек Евгений Замятин. Поэтому эту книгу можно читать как духовную и интеллектуальную автобиографию.
Среди авторов, которые обращались к «замятинским» образам и стилю, можно выделить американскую писательницу Айн Рэнд и её антиутопическую повесть «Гимн» 1938 года, где вместо имён героев использованы номера. В романе «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» 1968 года Филип К. Дик рассуждает об эмпатии и обсуждает, кого можно назвать человеком. «Рассказ служанки» 1985 года канадской писательницы Маргарет Этвуд показывает, каким жестоким является кастовое общество, затрагивает тему свободы человека.
Зарубежная антиутопическая традиция продолжает развиваться. «В какой мере они [зарубежные писатели] продолжают именно замятинскую линию — это вопрос, подлежащий обсуждению», — считает эксперт.
Зарубежная антиутопическая традиция продолжает развиваться. «В какой мере они [зарубежные писатели] продолжают именно замятинскую линию — это вопрос, подлежащий обсуждению», — считает эксперт.
Читайте также
Истории
Екатерина Манойло — о новой книге, смерти в её жизни и схожести с героями
Разбор
Что такое метамодернизм и существует ли он в русской литературе
