«Фарфоровая статуэтка в мире хаотичных характеров»
Как Достоевский создал «положительно прекрасного» героя в романе «Идиот»
Текст
подтекст разбор
Александра Токарева
10 июля 2025
Обложка
Надежда Фомина
Детские черты и болезненная рефлексия соединились в одном персонаже, которого Фёдор Достоевский вырастил в своей «лаборатории», — князе Мышкине. С одной стороны, герой получился искусственным, с другой, показан философом и ранимой личностью. Какое значение для литературы имеют «положительно прекрасные» люди и почему читателям не нравятся «идеальные» герои?
- Андрей НаседкинФилолог, литературовед, сотрудник Группы Достоевского в Литературном музее Института русской литературы (ИРЛИ) РАН (Пушкинский Дом)
- Юлия СытинаКандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Государственного университета просвещения (ГУП)
«Эксперимент» Достоевского
Понятие «положительно прекрасного человека» уходит корнями в древнерусскую словесность, но саму формулировку предложил Фёдор Достоевский. Впервые термин появляется в письме писателя к племяннице Софье Ивановой в начале 1868 года. Тогда автор был за границей и работал над романом «Идиот». Достоевский задумался, есть ли в его время подобные люди и как изобразить их в книге:
«…Главная мысль романа — изобразить „положительно прекрасного человека“. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного — всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы ещё далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо — Христос, так что явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица, уж конечно, есть бесконечное чудо».
Такое рассуждение связано с тем, что для Достоевского было характерно создание амбивалентныхⓘ персонажей. Двойственность он считал чертой, свойственной человеческой природе, и «большой мукой». Так, Сонечка Мармеладова в «Преступлении и наказании», несмотря на близость к идеалу, «идёт по жёлтому билету». Религиозный Алёша Карамазов в последнем романе писателя «Братья Карамазовы» начинает сомневаться в «святости» старца Зосимы, когда тело наставника тлеет, и уходит из монастыря.
ⓘ
Амбивалентность — двойственность чувств, взгляда на ситуацию, отношения к чему- или кому-либо.
Амбивалентность — двойственность чувств, взгляда на ситуацию, отношения к чему- или кому-либо.
«Что касается идеала, Достоевский совершенно намеренно ставил задачу создать очередного похожего, амбивалентного героя в „Идиоте“. Здесь важно понимать, что романы „Великого пятикнижия“ⓘ писались уже после каторги. Там писатель читал „Евангелие“, стал очень верующим и религиозным. Оттуда и символика в поздних романах, и своеобразный христианский подвиг по формированию такого персонажа», — отмечает Наседкин.
ⓘ
«Великое пятикнижие» Достоевского — в литературных кругах так называют неофициальный цикл из пяти самых масштабных романов автора, которые создавались с 1866 по 1880 год. Туда входят «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы».
«Великое пятикнижие» Достоевского — в литературных кругах так называют неофициальный цикл из пяти самых масштабных романов автора, которые создавались с 1866 по 1880 год. Туда входят «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы».
Литературовед поясняет, что создание «положительно прекрасного» героя — это художественный эксперимент.
Достоевский хотел показать, что человек может отличаться «нравственной зрелостью даже в эпоху торжества нигилистов, роста преступников, людей, утративших веру в Бога».
Таким персонажем стал князь Лев Мышкин, главный герой «Идиота». Роман создавался с 1867 по 1869 год — один из сложных этапов жизни писателя. Достоевский работал над произведением в Швейцарии и Италии, куда уехал из-за долгов перед издателями. В этот период рождается и умирает его первая дочь Соня. Черновики книги автор сжигает и начинает всё заново.
Достоевский хотел показать, что человек может отличаться «нравственной зрелостью даже в эпоху торжества нигилистов, роста преступников, людей, утративших веру в Бога».
Таким персонажем стал князь Лев Мышкин, главный герой «Идиота». Роман создавался с 1867 по 1869 год — один из сложных этапов жизни писателя. Достоевский работал над произведением в Швейцарии и Италии, куда уехал из-за долгов перед издателями. В этот период рождается и умирает его первая дочь Соня. Черновики книги автор сжигает и начинает всё заново.
“
Некоторые исследователи полагают, что Мышкин «до» и «после» смерти Сонечки — два разных героя. Я не склонна соглашаться с такой точкой зрения, но, как мне кажется, блуждания князя в Петербурге в начале второй части романа, разговор с Рогожиным, туманная «жуть» двух этих глав несут в себе отпечаток тяжёлых личных переживаний писателя. Тем жизненнее и гениальнее роман.
В Европе Достоевский посещал картинные галереи. Особенно его поразило полотно Ганса Гольбейна Младшего «Тело мёртвого Христа в гробу».
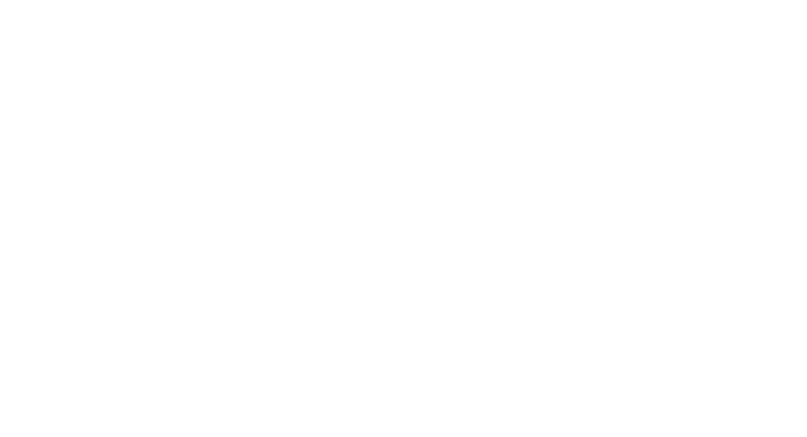
Картина написана в 1521–1522 годах, во время религиозного кризиса. На полотне изображён мёртвый Христос. В отличие от других обращавшихся к сюжету художников, которые придавали Спасителю величественный образ, Гольбейн сохраняет элементы земной жизни в образе Иисуса, натурально изображая смерть. Его Христос не испытывает мистического преображения, не соответствует высшему идеалу. Гольбейн воплотил в картине не только собственные духовные поиски, но и тенденции эпохи. Фото: mif-medyza.ru
«Репродукция висит и у Рогожина в „Идиоте“. Эта картина играет фундаментальную роль, потому что князь Мышкин в конце романа дублирует это изображение [Мышкин оказывается как бы „похоронен“ в болезни, когда его идеалы разрушаются реальностью — прим. „Подтекста“]. Сам Достоевский говорил, что от этой картины может пропасть вера в Бога», — отмечает Наседкин.
Финансовые трудности и семейная трагедия сопровождали процесс создания романа и во многом диктовали честность, глубину и трагизм «Идиота».
В первых главах князь Мышкин вспоминает рассказ приговорённого к казни. Этого человека ждала гибель, но позже наказание заменили. Наседкин добавляет, что такая же история произошла и с Достоевским. Писатель участвовал в кружке Петрашевцев и читал запрещённое письмо Белинского Гоголю. За это членов организации должны были казнить, но в последний момент приговор изменили — отправили в ссылку. Этот эпизод стал поворотным в судьбе Достоевского.
Финансовые трудности и семейная трагедия сопровождали процесс создания романа и во многом диктовали честность, глубину и трагизм «Идиота».
В первых главах князь Мышкин вспоминает рассказ приговорённого к казни. Этого человека ждала гибель, но позже наказание заменили. Наседкин добавляет, что такая же история произошла и с Достоевским. Писатель участвовал в кружке Петрашевцев и читал запрещённое письмо Белинского Гоголю. За это членов организации должны были казнить, но в последний момент приговор изменили — отправили в ссылку. Этот эпизод стал поворотным в судьбе Достоевского.
«Не сложно представить, что человек собирался проститься с жизнью с минуты на минуту, но обрёл возможность спастись. Как мне кажется, это очень действует на психику. И сам Достоевский вспоминал: не все, кто был на Семёновском плацуⓘ, могли прийти в себя, потому что это, если выражаться примитивно, эмоциональные качели, совершенно невообразимые. Бездна от ожидания смерти к получению новой жизни. И это отражается в романе „Идиот“», — поясняет эксперт.
ⓘ
Семёновский плац (сейчас — Пионерская площадь) одна из крупнейших площадей Петербурга. С середины XIX века здесь проводили публичные казни.
Семёновский плац (сейчас — Пионерская площадь) одна из крупнейших площадей Петербурга. С середины XIX века здесь проводили публичные казни.
Российский философ Григорий Померанц писал, что князь Мышкин — «двойное чудо» Достоевского, выношенное «тоской русского грешника по святости». Ещё один шанс на жизнь, полученный Фёдором Михайловичем, выстроил образ главного героя.
«Ребёнок» и «философ»
Князь Мышкин — герой-идеологⓘ, выращенный в «лаборатории» Достоевского и «произошедший» от идеи, что характерно для творчества писателя, замечает Наседкин.
ⓘ
Герой-идеолог — тип персонажа русской классической литературы, для которого идея становится смыслом жизни.
Герой-идеолог — тип персонажа русской классической литературы, для которого идея становится смыслом жизни.
По его мнению, с точки зрения обычного человека, Мышкин не реалистичен. Герой гротескный, не вписывается в общество, не понимает подтекста человеческих отношений, не считывает флирт, угрозы и агрессию, искажённо интерпретирует слова и поступки людей.
«Это отвечает начальной задумке Достоевского. При этом писатель показывает, что этот портрет не стоит применять к рядовым читателям, обычным людям. Я бы сказал, это не совсем правильный пример для подражания, потому что если мы все ринемся копировать Мышкина, это будет тяжёлая картина. Мы наблюдаем не очень реалистичный портрет, но, безусловно, многогранный», — отмечает литературовед.
Сытина считает, Мышкин — сама жизнь, «что бы о нём ни говорили и как бы ни оценивали», особенно если рассматривать «Идиота» как роман о людях, а не трактат об идеалах. Князь искренне любит ближних и «дальних», лишён эгоизма, но при этом — не простак. Он прозревает и земную жизнь, и духовную реальность. Вместе с тем, остаётся человеком, и «не нужно ждать от него сверхчеловеческих подвигов».
«Трагическое столкновение [внутреннего мира героя с внешним — прим. „Подтекста“] для нас, читателей, становится плачевным, мы переживаем это как собственный опыт. Возвращение Мышкина в Швейцарию — это большое горе, диагноз и вердикт от Достоевского, что мир слишком несовершенен на данный момент, что он неспособен принять таких людей. Это всё помогает тому, что читатель погружается в историю и сочувствует персонажу», — говорит Наседкин.
«Идиот» — реалистический роман. Направление подразумевает психологическую достоверность. Литературовед отмечает, что в этом плане Лев Мышкин — несколько искусственный персонаж, эксперимент, который вписан в ряд более правдоподобных героев с их трагедиями и надрывами: Рогожина, Настасьи Филипповны.
«Это отвечает начальной задумке Достоевского. При этом писатель показывает, что этот портрет не стоит применять к рядовым читателям, обычным людям. Я бы сказал, это не совсем правильный пример для подражания, потому что если мы все ринемся копировать Мышкина, это будет тяжёлая картина. Мы наблюдаем не очень реалистичный портрет, но, безусловно, многогранный», — отмечает литературовед.
Сытина считает, Мышкин — сама жизнь, «что бы о нём ни говорили и как бы ни оценивали», особенно если рассматривать «Идиота» как роман о людях, а не трактат об идеалах. Князь искренне любит ближних и «дальних», лишён эгоизма, но при этом — не простак. Он прозревает и земную жизнь, и духовную реальность. Вместе с тем, остаётся человеком, и «не нужно ждать от него сверхчеловеческих подвигов».
«Трагическое столкновение [внутреннего мира героя с внешним — прим. „Подтекста“] для нас, читателей, становится плачевным, мы переживаем это как собственный опыт. Возвращение Мышкина в Швейцарию — это большое горе, диагноз и вердикт от Достоевского, что мир слишком несовершенен на данный момент, что он неспособен принять таких людей. Это всё помогает тому, что читатель погружается в историю и сочувствует персонажу», — говорит Наседкин.
«Идиот» — реалистический роман. Направление подразумевает психологическую достоверность. Литературовед отмечает, что в этом плане Лев Мышкин — несколько искусственный персонаж, эксперимент, который вписан в ряд более правдоподобных героев с их трагедиями и надрывами: Рогожина, Настасьи Филипповны.
“
Князь Мышкин оказывается фарфоровой статуэткой в мире хаотичных характеров. В этом заключается проблема и вызов реалистическому роману.
У некоторых критиков того времени сочетание во Льве Мышкине противоположных черт вызывало недоумение.
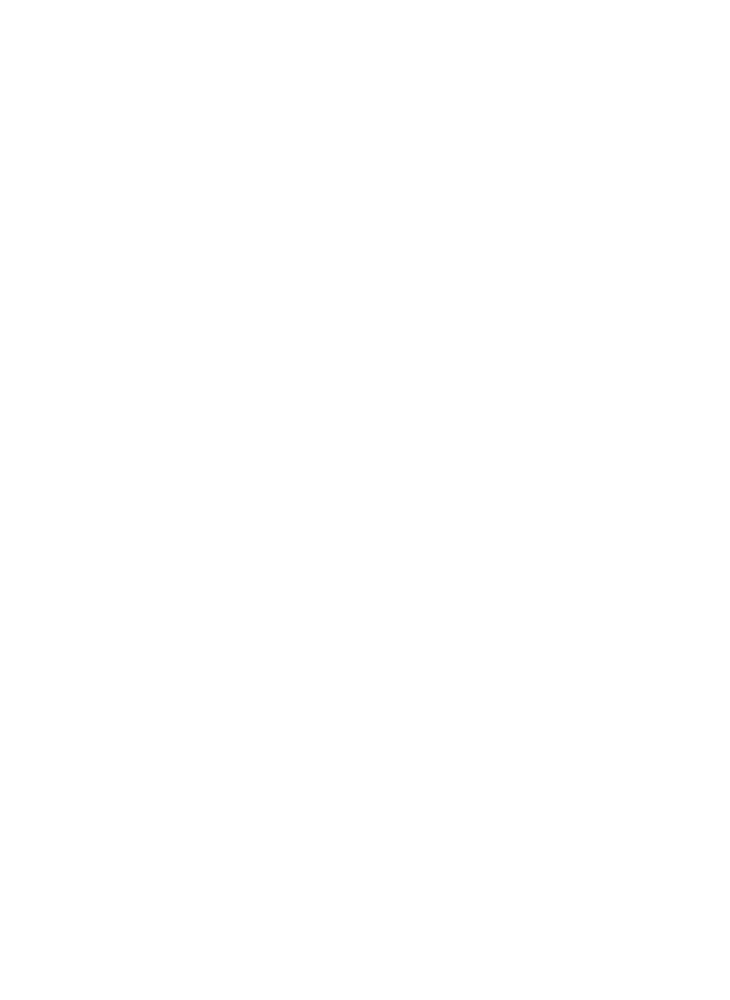
«Главное действующее лицо романа — князь Мышкин — идиот, как его называют многие; человек крайне ненормально развитый духовно, человек с болезненно развитою рефлексией, у которого две крайности, наивная непосредственность и глубокий психологический анализ, слиты вместе, не противореча друг другу», — отзывался о романе в «Вечерней газете» писатель Николай Лесков.
Фото: museum-online.moscow
Фото: museum-online.moscow
Наседкин, однако, считает, что Достоевскому удалось создать «положительно прекрасного» человека.
«Как раз таки отсутствие противоречий между наивной непосредственностью и глубоким психологическим анализом и показались критикам того времени недостоверными. В князе Мышкине совмещаются ребёнок и философ», — поясняет он.
«Как раз таки отсутствие противоречий между наивной непосредственностью и глубоким психологическим анализом и показались критикам того времени недостоверными. В князе Мышкине совмещаются ребёнок и философ», — поясняет он.
Не идеален и оттого прекрасен
По словам Сытиной, в русской литературе существуют «положительные», но «скучные» герои — Мальвина из повести-сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» Алексея Толстого; «прекрасные», но не «положительные» Григорий Печорин из «Героя нашего времени» и Демон из одноимённой поэмы Михаила Лермонтова. Есть персонажи, которые отражают особенности национального характера, нравственные идеалы и стремление к добру — Татьяна Ларина из «Евгения Онегина» Александра Пушкина и Калашников из «Песни про купца Калашникова» Лермонтова.
«Положительно прекрасным» в христианской культуре является Иисус Христос. В XIX веке религиозные ценности оспаривает социалистическая литература, которая предлагает другие идеалы. По словам Сытиной, Рахметов из романа «Что делать?» хронологически близок к Мышкину Достоевского. Социалист Николай Чернышевский предлагает героя в качестве нового апостола, «нового человека», мессии революции. Писатель не изображал персонажа в действии, скорее всего, боясь «уронить» его с пьедестала таинственности и героизма. С такой сложностью и столкнулся Достоевский, взявшись за «положительно прекрасного» героя.
Сам Достоевский писал, что «из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот». В этом контексте он упоминал также мистера Пиквика из романа «Посмертные записки Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса и Жана Вальжана из романа «Отверженные» Виктора Гюго, которые не вполне удовлетворили писателя. При этом Дон Кихот и Пиквик, по его мнению, вызывают симпатию у читателя из-за того, что «смешны», а Вальжан — «по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества».
«Положительно прекрасным» в христианской культуре является Иисус Христос. В XIX веке религиозные ценности оспаривает социалистическая литература, которая предлагает другие идеалы. По словам Сытиной, Рахметов из романа «Что делать?» хронологически близок к Мышкину Достоевского. Социалист Николай Чернышевский предлагает героя в качестве нового апостола, «нового человека», мессии революции. Писатель не изображал персонажа в действии, скорее всего, боясь «уронить» его с пьедестала таинственности и героизма. С такой сложностью и столкнулся Достоевский, взявшись за «положительно прекрасного» героя.
Сам Достоевский писал, что «из прекрасных лиц в литературе христианской стоит всего законченнее Дон Кихот». В этом контексте он упоминал также мистера Пиквика из романа «Посмертные записки Пиквикского клуба» Чарльза Диккенса и Жана Вальжана из романа «Отверженные» Виктора Гюго, которые не вполне удовлетворили писателя. При этом Дон Кихот и Пиквик, по его мнению, вызывают симпатию у читателя из-за того, что «смешны», а Вальжан — «по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества».
“
Собственно «положительно прекрасное лицо» в мировой словесности Достоевский находил только одно — Христа. Но Христос — Бог, а Фёдор Михайлович писал о людях. Священное Писание — сакральный текст, а Достоевский писал светские романы.
Наседкин считает, что Дон Кихот и Иисус Христос, как литературные персонажи, изображены преувеличенно благородно. Мышкина же читатель впервые видит, когда тот возвращается из швейцарской лечебницы в Петербург. Достоевский сразу обозначает, что герой психически нездоров.
«Мышкину писатель даёт глубину, отрезает от себя какие-то черты, поднося их князю. Например, у Льва Николаевича — эпилепсия, у него случались припадки, которые, как известно, были у самого Достоевского. Мышкин отличается от других положительных персонажей „клиникой“», — поясняет литературовед.
«Мышкину писатель даёт глубину, отрезает от себя какие-то черты, поднося их князю. Например, у Льва Николаевича — эпилепсия, у него случались припадки, которые, как известно, были у самого Достоевского. Мышкин отличается от других положительных персонажей „клиникой“», — поясняет литературовед.
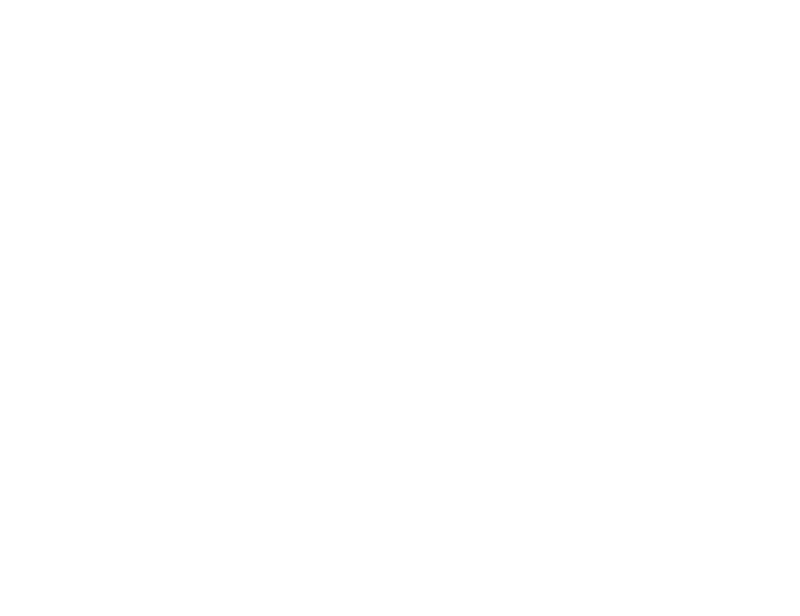
Иллюстрации Саввы Бродского к «Дон Кихоту» М. Сервантеса. Фото: vk.com/world_of_graphics
Эпилепсия или «падучая», как уточняет Наседкин, сопровождается эйфорией, ощущением, что «перед тобой раскрывается бездна, тайна мироздания». Это «удивительное» состояние делает Мышкина глубоким и правдоподобным героем.
Произведения, в которых есть «положительно прекрасный» человек, становятся памятниками литературы. Эксперт считает, что экспериментальность и намеренную психологическую недостоверность в «Идиоте» читатели воспринимают, как изображение характеров в «Анне Каренине» Льва Толстого.
«Мы читаем „Анну Каренину“ и поражаемся тому, насколько это подробный, глубокий и неоднозначный портрет семей, столкновения характеров во второй половине XIX века. И мы всегда будем читать это, как глубокую психологическую прозу. В случае с „Идиотом“ мы смотрим на это, как на эксперимент. По крайней мере, я буду так делать», — говорит он.
Произведения, в которых есть «положительно прекрасный» человек, становятся памятниками литературы. Эксперт считает, что экспериментальность и намеренную психологическую недостоверность в «Идиоте» читатели воспринимают, как изображение характеров в «Анне Каренине» Льва Толстого.
«Мы читаем „Анну Каренину“ и поражаемся тому, насколько это подробный, глубокий и неоднозначный портрет семей, столкновения характеров во второй половине XIX века. И мы всегда будем читать это, как глубокую психологическую прозу. В случае с „Идиотом“ мы смотрим на это, как на эксперимент. По крайней мере, я буду так делать», — говорит он.
Читателю нужен другой
Наседкин замечает, что «Идиот» — выбивающийся роман, как и любое произведение, «если бы действующим лицом в нём был инопланетянин».
В современной литературе существуют «идеальные» персонажи — Мэри Сью и Марти Стьюⓘ, но, по мнению литературоведа, над такими героями смеются.
В современной литературе существуют «идеальные» персонажи — Мэри Сью и Марти Стьюⓘ, но, по мнению литературоведа, над такими героями смеются.
ⓘ
Мэри Сью (мужской вариант — Марти Стью, или Сью) — идеализированный персонаж, наделённый гипертрофированными, нереалистичными достоинствами и способностями без сюжетного обоснования.
Мэри Сью (мужской вариант — Марти Стью, или Сью) — идеализированный персонаж, наделённый гипертрофированными, нереалистичными достоинствами и способностями без сюжетного обоснования.
«Если писатель ставит перед собой задачу изобразить „положительно прекрасного“ персонажа, то это всё равно будет оммаж к Достоевскому с его „Идиотом“. Но если писатель рассчитывает на некоторую психологическую достоверность, то здесь придётся ею пожертвовать, потому что детскость и глубина, которые есть в Мышкине, не соотносятся друг с другом. Такое странное социальное поведение мы вряд ли можем представить себе в обычной жизни», — поясняет Наседкин.
По мнению Сытиной, «положительно прекрасный человек» — субъективное понятие, подразумевающее некий идеал. Люди же не совершенны и далеки от такого типа, поэтому истории о грешниках кажутся интереснее: успокаивают и развлекают. Эксперт добавляет, что восприятие «положительно прекрасного» требует «работы души, а это энергозатратно, особенно для современных читателей».
Наседкин считает, что читатели любят неоднозначных персонажей, так как находят это свойство в себе: «Наша природа очень сложная — мы не хорошие, не плохие. В нас с течением времени смешиваются добро и зло, мы амбивалентны как люди, и это нормально».
Если человек узнаёт себя в герое, то сочувствует ему. С восприятием идеалов всё обстоит неоднозначно.
По мнению Сытиной, «положительно прекрасный человек» — субъективное понятие, подразумевающее некий идеал. Люди же не совершенны и далеки от такого типа, поэтому истории о грешниках кажутся интереснее: успокаивают и развлекают. Эксперт добавляет, что восприятие «положительно прекрасного» требует «работы души, а это энергозатратно, особенно для современных читателей».
Наседкин считает, что читатели любят неоднозначных персонажей, так как находят это свойство в себе: «Наша природа очень сложная — мы не хорошие, не плохие. В нас с течением времени смешиваются добро и зло, мы амбивалентны как люди, и это нормально».
Если человек узнаёт себя в герое, то сочувствует ему. С восприятием идеалов всё обстоит неоднозначно.
“
Князь Мышкин очень многими читателями воспринимается как инфантильный, витающий в облаках. Это правда, он не приспособлен к земной жизни. С другой стороны, Мышкин — высокая планка, куда стоит стремиться в плане нравственного роста.
Читайте также
Рецензии
Реальная история дедушки Гузель Яхиной в романе «Эшелон на Самарканд»: мозаика лиц и историй, соединённых одним путём жизни
Истории
Камилла Магамедова — о том, как в творчестве живут травматизация и вера в лучшее
