Истории должны рассказываться
Карина Шаинян — о том, как свобода в жизни превращается в свободу в искусстве
Текст
подтекст истории
Анастасия Залозная
Дарья Чирова
31 июля 2025
Обложка
Писательница Карина Шаинян трижды поступала на факультет геологии, но в итоге окончила психологический факультет МГУ. Рисовала, путешествовала, работала в школе, поваром на Алтае, а по пути туда дописывала роман «Саспыга». Как опыт путешественника помогает в создании историй, почему Карина не любит слово «творчество», в чём видит миссию писателя и как писать «по заветам» братьев Стругацких — Шаинян рассказала в интервью «Подтексту».
Самопознание
Карина родилась в семье потомственных геологов в Грозном. Выросла в Охе на Сахалине. В детстве «пописывала рассказики», а в 10 лет села за «роман».
«Это была история о собаках, которые эмансипировались от хозяев и зажили собственной коммуной. Где-то на второй странице придумала, как они будут делать себе дома. Пошла проверять способ, и, собственно, на этом роман закончился. Потому что весь следующий месяц делала домики из соломы и глины. Спойлер: ничего не получилось», — вспоминает Шаинян.
Карина терпеть не могла школу. Лучшим уроком считала тот, где можно спокойно читать под партой книжку, а учителем — того, кто не трогает. В средних классах подруга позвала её в изостудию. Это было «прекрасное место»: ученикам давали грунтованный картон, краски, а главное — «оставляли в покое».
Шаинян не хотела показывать работы родителям. Отец в юности тоже учился в художественной школе, писал для капустников и был перфекционистом. Для мачехи же любая работа могла стать поводом для насмешек. «Считалось, что все попытки — потерянное время, которое стоило бы потратить на учёбу или помощь по дому, так что большую часть сделанного я просто скрывала», — говорит Карина.
После окончания школы факультет геологии казался Карине очевидным решением. Подала документы в Московскую академию нефти и газа имени Губкина, так как там проводили выездные экзамены в Охе. Учёба не понравилась, и после отчисления она решила поступать заново — на этот раз в МГУ. Дважды отучившись на первом курсе, окончательно рассталась с геологией и пошла на психфак.
«Это была история о собаках, которые эмансипировались от хозяев и зажили собственной коммуной. Где-то на второй странице придумала, как они будут делать себе дома. Пошла проверять способ, и, собственно, на этом роман закончился. Потому что весь следующий месяц делала домики из соломы и глины. Спойлер: ничего не получилось», — вспоминает Шаинян.
Карина терпеть не могла школу. Лучшим уроком считала тот, где можно спокойно читать под партой книжку, а учителем — того, кто не трогает. В средних классах подруга позвала её в изостудию. Это было «прекрасное место»: ученикам давали грунтованный картон, краски, а главное — «оставляли в покое».
Шаинян не хотела показывать работы родителям. Отец в юности тоже учился в художественной школе, писал для капустников и был перфекционистом. Для мачехи же любая работа могла стать поводом для насмешек. «Считалось, что все попытки — потерянное время, которое стоило бы потратить на учёбу или помощь по дому, так что большую часть сделанного я просто скрывала», — говорит Карина.
После окончания школы факультет геологии казался Карине очевидным решением. Подала документы в Московскую академию нефти и газа имени Губкина, так как там проводили выездные экзамены в Охе. Учёба не понравилась, и после отчисления она решила поступать заново — на этот раз в МГУ. Дважды отучившись на первом курсе, окончательно рассталась с геологией и пошла на психфак.
Психологию она выбрала из любопытства и в надежде узнать «природу иллюзорных миров» в своей голове. У Шаинян была гипотеза: они более реальны, чем принято считать: «Учась на геофаке, я познакомилась с девочкой, которая, поступая, верила, что геологи изучают инопланетян. Боюсь, при поступлении на психфак я сама сыграла в эту девочку».
Карина ценила свободу, которая сопровождала обучение. Особой радостью были разговоры с научным руководителем — Галиной Андреевойⓘ, матерью советской социальной психологии. Нравились ей и лекции Валерия Петуховаⓘ — каждая пара была спектаклем и приключением. «Но я была ужасной студенткой, к тому же глубоким интровертом, — вспоминает Карина, — так что взяла от психфака намного меньше, чем могла бы».
Карина ценила свободу, которая сопровождала обучение. Особой радостью были разговоры с научным руководителем — Галиной Андреевойⓘ, матерью советской социальной психологии. Нравились ей и лекции Валерия Петуховаⓘ — каждая пара была спектаклем и приключением. «Но я была ужасной студенткой, к тому же глубоким интровертом, — вспоминает Карина, — так что взяла от психфака намного меньше, чем могла бы».
ⓘ
Галина Михайловна Андреева — советский и российский социальный психолог и социолог. Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, академик РАО.
ⓘ
Валерий Викторович Петухов — советский и российский психолог, профессор кафедры общей психологии факультета психологии МГУ, заслуженный преподаватель МГУ.
Галина Михайловна Андреева — советский и российский социальный психолог и социолог. Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, академик РАО.
ⓘ
Валерий Викторович Петухов — советский и российский психолог, профессор кафедры общей психологии факультета психологии МГУ, заслуженный преподаватель МГУ.
После окончания обучения Карина подумывала о поступлении в аспирантуру и научной карьере, но процесс показался сложным, а затраты сил — чрезмерными.
Карина пробовала себя в журналистике, делала украшения. Единственной регулярной работой была сезонная на Алтае, куда Шаинян приехала как туристка в 1998 году. Она умела обращаться с лошадьми и знала тайгу — детство на Сахалине с папой-геологом и охотником не прошло даром. В 2000 году хозяйка базы Ирина предложила ей стать стажёром.
Карина пробовала себя в журналистике, делала украшения. Единственной регулярной работой была сезонная на Алтае, куда Шаинян приехала как туристка в 1998 году. Она умела обращаться с лошадьми и знала тайгу — детство на Сахалине с папой-геологом и охотником не прошло даром. В 2000 году хозяйка базы Ирина предложила ей стать стажёром.
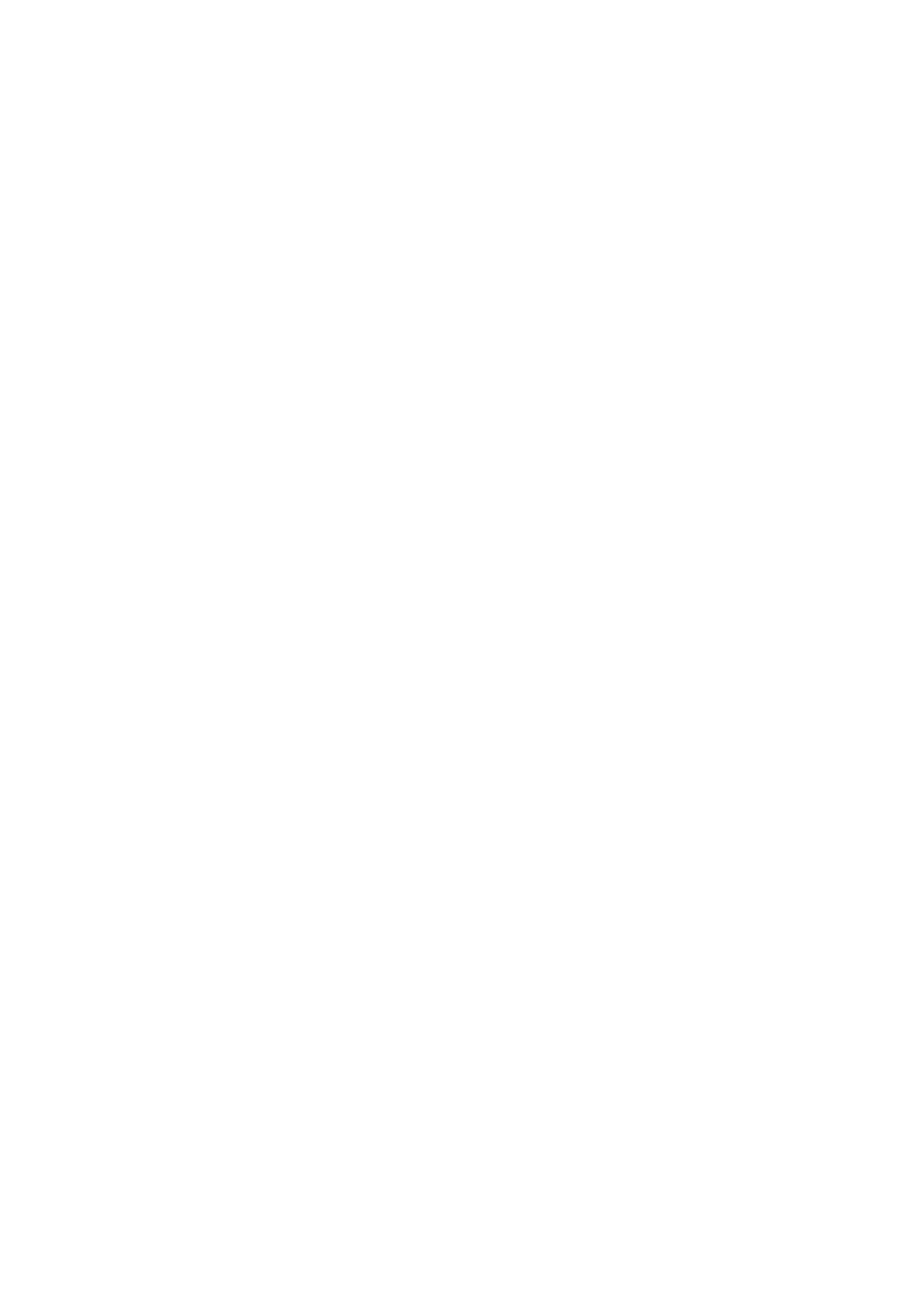
Два года Карина помогала инструктору и водила в походы небольшие группы туристов. Фото: личный архив Карины Шаинян.
«Потом состав групп изменился: стало приезжать больше женщин и детей и меньше людей с серьёзным туристическим опытом. Работа инструктора стала намного тяжелее физически, и девушки, в том числе и я, больше не могли её вытягивать», — рассказывает Карина.
Шаинян всё чаще оставалась на базе. Однажды туда приехал турист, который не умел готовить, и попросил найти ему повара. Хозяйка базы тогда сказала: «У меня есть только Карина. Если не боитесь, что она вас отравит, — забирайте». По мнению писательницы, чтобы и дальше выбираться в горы и тайгу, можно было стать и поваром. Шаинян до сих пор ходит в походы, только теперь к коню «прилагаются котёл и поварёшка».
Шаинян всё чаще оставалась на базе. Однажды туда приехал турист, который не умел готовить, и попросил найти ему повара. Хозяйка базы тогда сказала: «У меня есть только Карина. Если не боитесь, что она вас отравит, — забирайте». По мнению писательницы, чтобы и дальше выбираться в горы и тайгу, можно было стать и поваром. Шаинян до сих пор ходит в походы, только теперь к коню «прилагаются котёл и поварёшка».
Интроспекцияⓘ
Регулярно писать Карина начала в 2001 году. Тогда она создала два рассказа. Первый, по её словам, можно считать предтечей романа «С ключом на шее» — «Оранжевая маска». Это история о девочке, которая вешает страшную маску в лесотундре, чтобы отпугнуть незнакомцев и сделать место только своим. Во втором рассказе «Ингурёк» маленькие зверьки заманивали людей в горы. Эта работа предшествовала роману «Саспыга».
Муж Шаинян прочитал рассказы и предложил опубликовать в интернете. Они нашли сайт «Самиздат» при библиотеке Максима Мошковаⓘ и выложили их.
Муж Шаинян прочитал рассказы и предложил опубликовать в интернете. Они нашли сайт «Самиздат» при библиотеке Максима Мошковаⓘ и выложили их.
ⓘ
Интроспекция — это процесс самоанализа, наблюдения за мыслями и чувствами.
ⓘ
Максим Мошков — российский программист, веб-разработчик. В 1994 году основал одну из первых русскоязычных электронных библиотек, которую пополняют пользователи.
Интроспекция — это процесс самоанализа, наблюдения за мыслями и чувствами.
ⓘ
Максим Мошков — российский программист, веб-разработчик. В 1994 году основал одну из первых русскоязычных электронных библиотек, которую пополняют пользователи.
«В то время интернет был маленьким, а „Самиздат“ — ещё меньше. Все друг друга читали. Мой рассказ прочитали практически все, кто там был, и оказалось, что людям нравится то, что у меня получается. Это дало повод писать дальше», — рассказывает писательница.
В 21 год Карина устроилась работать школьным психологом. Тогда специалисты только появились в учебных заведениях, и мало кто понимал, для чего они нужны. Дети обращались за помощью в тяжёлых ситуациях, включая эпизоды домашнего насилия. Самые сложные случаи она передавала более опытным коллегам. С остальными справлялась. Без опыта и супервизииⓘ главной задачей было «не навредить». Через полгода Шаинян покинула эту сферу.
ⓘ
Супервизия — это процесс, в котором более опытный психолог (супервизор) помогает коллеге (супервизанту) в работе с клиентами.
Супервизия — это процесс, в котором более опытный психолог (супервизор) помогает коллеге (супервизанту) в работе с клиентами.
По словам Карины, понимание, как устроена человеческая психика, «встроено» в неё. При этом в работе над текстом сознательно Шаинян не использует полученные на факультете знания. «Я никогда не думаю: „О-о-о-о-о, я же психолог, сейчас ка-а-ак вспомню что-нибудь из, например, социальной психологии личности, как применю!“» — иронизирует Шаинян.
Она признаётся, что научный опыт иногда мешает, например, если нужен простой сюжетный ход вместо сложного: трудно игнорировать побочные факторы и переменные. Для организации у Карины есть доска с информацией, о которой часто забывает — предпочитает держать всё в голове. Говорит, что, возможно, использует систему, когда придумает роман со множеством переплетённых сюжетных линий.
Важной точкой для Шаинян стал роман «С ключом на шее» — он принёс известность вне круга любителей фантастики и сотрудничество с агентством «Банке, Гумен и Смирнова» из Санкт-Петербурга. По мнению Карины, её писательский путь связан не с изменением жанра, а с повышением качества и сменой аудитории. Границы между жанровой литературой и мейнстримной «условны». Ранние работы Шаинян можно отнести к каждой «категории».
«Долгое время меня воспринимали как фантаста — это была история не столько о литературе, сколько о жизненных обстоятельствах. Как только появилась возможность, я оставила работу над проектами и занялась текстами, которые действительно хотела создавать», — заявляет Карина.
По её мнению, писать нужно по заветам братьев Стругацких: либо о том, что знаешь досконально, либо о том, о чём не знает никто, иначе правды не получится. Для Щаинян важно всё прочувствовать. Роман «Саспыга» создавался по схожему принципу.
Она признаётся, что научный опыт иногда мешает, например, если нужен простой сюжетный ход вместо сложного: трудно игнорировать побочные факторы и переменные. Для организации у Карины есть доска с информацией, о которой часто забывает — предпочитает держать всё в голове. Говорит, что, возможно, использует систему, когда придумает роман со множеством переплетённых сюжетных линий.
Важной точкой для Шаинян стал роман «С ключом на шее» — он принёс известность вне круга любителей фантастики и сотрудничество с агентством «Банке, Гумен и Смирнова» из Санкт-Петербурга. По мнению Карины, её писательский путь связан не с изменением жанра, а с повышением качества и сменой аудитории. Границы между жанровой литературой и мейнстримной «условны». Ранние работы Шаинян можно отнести к каждой «категории».
«Долгое время меня воспринимали как фантаста — это была история не столько о литературе, сколько о жизненных обстоятельствах. Как только появилась возможность, я оставила работу над проектами и занялась текстами, которые действительно хотела создавать», — заявляет Карина.
По её мнению, писать нужно по заветам братьев Стругацких: либо о том, что знаешь досконально, либо о том, о чём не знает никто, иначе правды не получится. Для Щаинян важно всё прочувствовать. Роман «Саспыга» создавался по схожему принципу.
«На базе [туристической] случается пару раз за сезон ситуация: группа уезжает, и кто-то из девчонок начинает рыдать, хочет остаться. Я подумала: „А если бы одна из них не стала дожидаться возвращения на базу?“ Долго обдумывала эту ситуацию, но толковый сюжет не прорастал. Потом мне приснилась саспыгаⓘ — и всё встало на свои места», — вспоминает Карина.
ⓘ
В понимании Шаинян, саспыга — это мифический зверь, которым становится талантливый человек, доведённый до крайней степени отчаяния. Если он попадёт в горы, то переродится в саспыгу.
В понимании Шаинян, саспыга — это мифический зверь, которым становится талантливый человек, доведённый до крайней степени отчаяния. Если он попадёт в горы, то переродится в саспыгу.
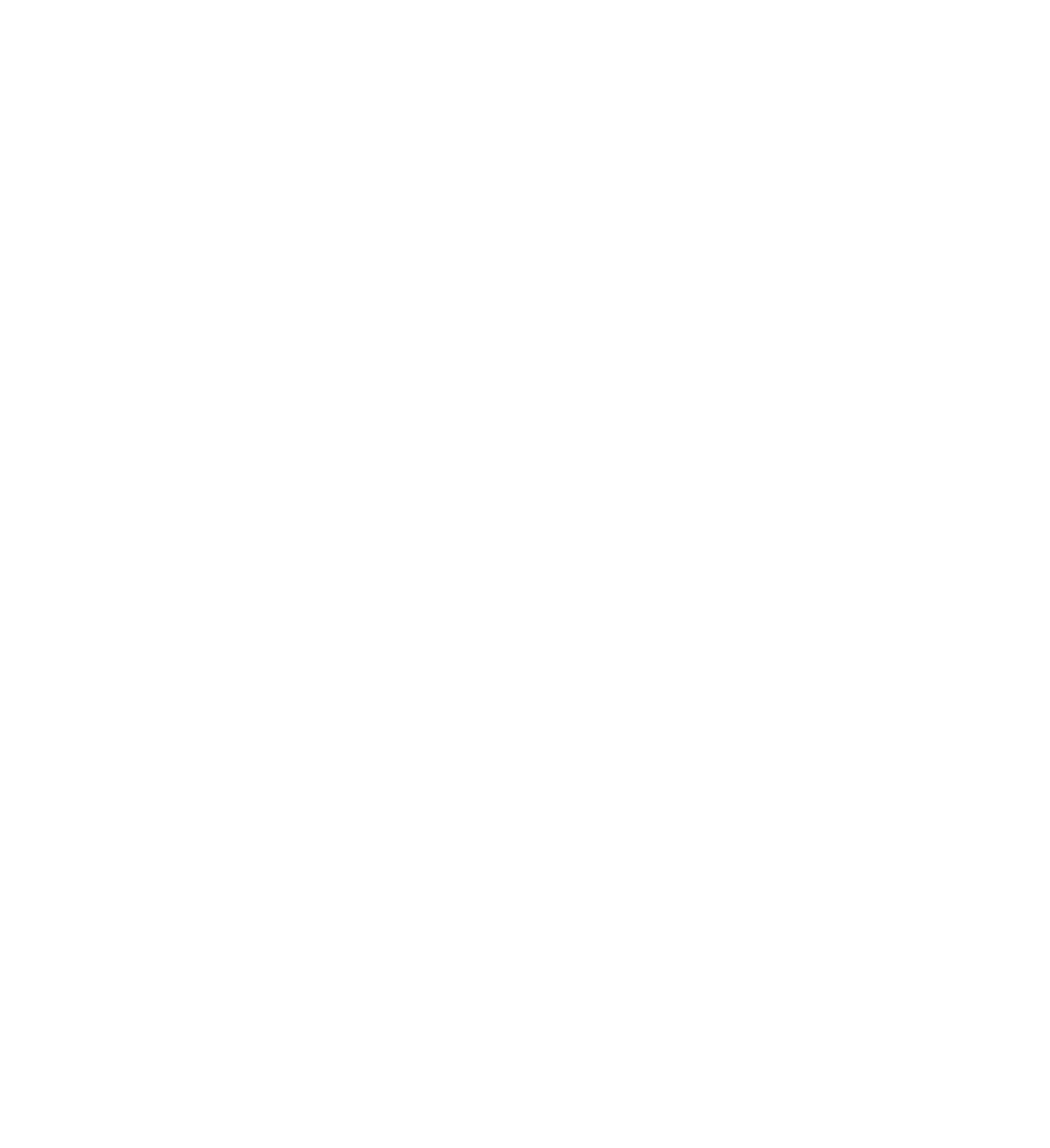
Шаинян редактирует «Саспыгу» в полевых условиях, практически «на месте действия». Фото: личный архив Карины Шаинян.
Во время работы над книгой Карина, по её словам, «превращается в зомби».
“
Общение, быт — всё сводится к необходимому минимуму. В психологии это называется «состояние потока» — когда личность исчезает, и человек полностью погружается в процесс. Оно редкое, но нормальное и случается у тех, кто любит и умеет работать. Если дом сияет чистотой, холодильник набит наготовленной едой, а я рвусь с кем-нибудь поболтать, — значит, застряла и текст не идёт. Стоит вернуться в поток, и я снова становлюсь рассеянной и не хочу отвлекаться ни на что лишнее.
Внутренний критик
По словам Карины, у неё не было тяги к искусству, скорее, — желание показывать. Большая часть её рассказов близка к магическому реализму. Много лет она писала для издательских проектов: приключенческие романы с элементами мистики, мистические триллеры.
Особую роль в её судьбе сыграла критик Галина Юзефович. Шаинян очень хотела, но боялась показать той роман «С ключом на шее»: «На Фантассамблееⓘ в Питере я наворачивала вокруг неё круги два дня, пока общая подруга не представила нас друг другу».
ⓘ
Петербургская фантастическая ассамблея — международный конвент, который в 2011 году создала группа энтузиастов для поклонников хорошей фантастики.
Петербургская фантастическая ассамблея — международный конвент, который в 2011 году создала группа энтузиастов для поклонников хорошей фантастики.
“
Все писатели — упёртые, тщеславные люди. Мы думаем: «Мой роман — шедевр, а кто этого не понимает, — тот дурак». Но у каждого автора бывают и моменты сомнений, когда кажется: «Я написала какую-то гадость, и на самом деле никто, ничего не умею». В такие моменты положительные рецензии дают почву под ногами.
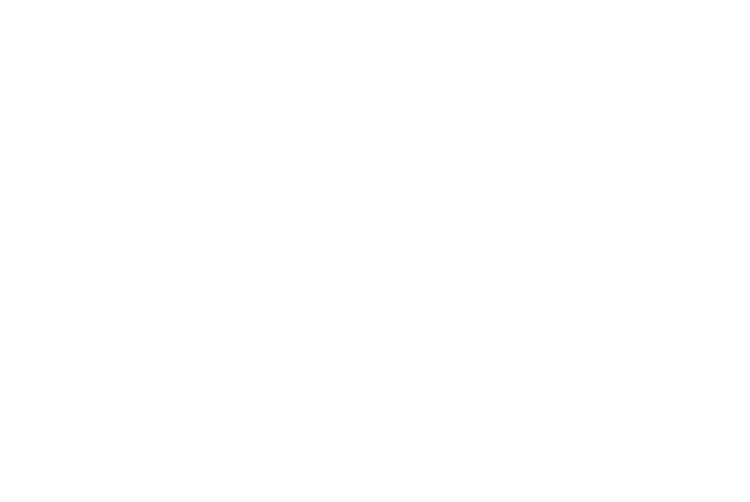
Для Карины популярный образ писателя в творческом кризисе — это гипербола. У неё нет дикой потребности писать: без работы «прекрасно проводит время». Рано или поздно, однако, снова возникает желание рассказать историю. Фото: личный архив Карины Шаинян.
Сейчас есть обязательства перед читателями и агентом, поэтому она намеренно нащупывает и культивирует желание писать. В настоящее время Шаинян «раскручивает» новую задумку.
Перенос черт реальных людей на персонажей Карина считает неотъемлемой частью профессии. По её мнению, если брать героев только из головы, получится «череда близнецов». При этом писательница не считает себя эмпатом.
«С тех пор как это слово [эмпатия — прим. „Подтекста“] вошло в обиход, его отсутствие стало синонимом негодяя. Мало кому приходит в голову, что эта способность сродни музыкальному слуху. Только по умению попадать в ноты о порядочности людей не судят. Нет у меня эмпатии. Я умею это делать, когда надо, но это крайне утомительное занятие», — рассказывает Карина.
Шаинян не любит, когда её художественные замыслы объединяют словом «творчество», — так называют «и написание прекрасных вещей, и сбор бусинок на резиночку». По её мнению, в термине есть ненужный пафос, который вызывает определённый образ. При словах «моё творчество» в воображении людей возникают стереотипы: «витающая в облаках дева или изрядно выпивающий непризнанный гений».
Перенос черт реальных людей на персонажей Карина считает неотъемлемой частью профессии. По её мнению, если брать героев только из головы, получится «череда близнецов». При этом писательница не считает себя эмпатом.
«С тех пор как это слово [эмпатия — прим. „Подтекста“] вошло в обиход, его отсутствие стало синонимом негодяя. Мало кому приходит в голову, что эта способность сродни музыкальному слуху. Только по умению попадать в ноты о порядочности людей не судят. Нет у меня эмпатии. Я умею это делать, когда надо, но это крайне утомительное занятие», — рассказывает Карина.
Шаинян не любит, когда её художественные замыслы объединяют словом «творчество», — так называют «и написание прекрасных вещей, и сбор бусинок на резиночку». По её мнению, в термине есть ненужный пафос, который вызывает определённый образ. При словах «моё творчество» в воображении людей возникают стереотипы: «витающая в облаках дева или изрядно выпивающий непризнанный гений».
“
У меня просто была и есть очень сильная тяга показывать. Это состояние, когда кричишь: «Смотрите, смотрите, там птичка, смотрите, кустик, смотрите, там закат. Смотрите, какой мир и какая в нём случилась история». У меня есть убеждение, что истории должны рассказываться. «Должны» — не в смысле «обязаны» — это что-то вроде закона физики или биологии. И так уж вышло, что некоторые истории могу рассказать только я. Вот и рассказываю.
Читайте также
Истории
Екатерина Манойло — о новой книге, смерти в её жизни и схожести с героями
Рецензии
Как литература и жизнь соединяются под одной обложкой и получается современный учебник истории — в книге Марии Степановой
