Литература по Эйлеру: от формул к формам
Алексей Конаков — о том, как технический склад ума помогает в литературном творчестве
Текст
подтекст истории
Анастасия Залозная
Надежда Фомина
26 июня 2025
Обложка
Критик Алексей Конаков окончил Санкт-Петербургский политехнический университет, но попал в литературную среду. Написал книгу «Табия тридцать два», при этом образ писателя вызывает у него отторжение. Как техническое образование помогает создавать «филологические эксперименты», почему нейросети пишут романы лучше людей и каким образом критика конкурирует с художественным творчеством — Алексей рассказал в интервью «Подтексту».
Дебют
В прошлом году вышел первый роман Алексея Конакова «Табия тридцать два»ⓘ. Это фантасмагорияⓘ о России будущего, где культуру заменили шахматы. В произведении есть цитата, описывающая этапы партии: «…дебют, когда рассчитываешь получить преимущество, миттельшпиль, когда веришь, что получил преимущество, и эндшпиль, когда видишь, что у тебя проиграно. Многие люди постарше любят толковать эту фразу как метафору жизненного пути: мол, дебют похож на полную надежд юность, миттельшпиль — на деятельную зрелость, а эндшпиль — на скорбную старость».
ⓘ
Табия — позиция в шахматах, когда заканчивается расстановка сил и стартует стадия миттельшпиля.
ⓘ
Фантасмагория в литературе — это странное, мистическое сочетание реального и нереального в изображении действительности. Приём часто используют для сатирического изображения героев или общества.
Табия — позиция в шахматах, когда заканчивается расстановка сил и стартует стадия миттельшпиля.
ⓘ
Фантасмагория в литературе — это странное, мистическое сочетание реального и нереального в изображении действительности. Приём часто используют для сатирического изображения героев или общества.
Алексей Конаков родился в Петербурге. Отец и мать — инженеры-металловеды. Литературного влияния в семье не было: один из дедушек рисовал, другой писал стихи. «Предшественников, которые могли на меня повлиять, не вижу. Скорее всего, как классический разночинец, я являюсь „продуктом“ книг, которые попались мне на жизненном пути», — говорит он.
Одна из первых рокировокⓘ — Санкт-Петербург — Ухта — случилась в жизни будущего писателя в детстве.
Одна из первых рокировокⓘ — Санкт-Петербург — Ухта — случилась в жизни будущего писателя в детстве.
ⓘ
Рокировка в шахматах — ход, при котором одновременно перемещаются король и ладья. В переносном смысле рокировка — перестановка или замена одного другим.
Рокировка в шахматах — ход, при котором одновременно перемещаются король и ладья. В переносном смысле рокировка — перестановка или замена одного другим.
«Тут хитрая история. Мои родители были студентами политехнического института. Тогда приняли закон, который затруднял студентам распределение в Ленинграде. Поэтому в 1988 году мы уехали на север: в Республику Коми, город Ухта, где я провёл детство. Кстати, это место службы Довлатова. В тексте „Зоны“ он упоминает посёлок Чибью, бывшее название города Ухта. Там я прожил до 17 лет, пока не вернулся в Петербург», — рассказывает он.
«Дебют» Конакова состоялся в Ухте. Одной из первых книг, повлиявших на будущего писателя, стала «Антология русского футуризма». В девятом классе на него произвели большое впечатление стихи Велимира Хлебникова, Алексея Кручёныхⓘ, Владимира Маяковского — они резко отличались от школьной классики наподобие Александра Пушкина или Афанасия Фета. Это стало импульсом интереса к литературе.
«Дебют» Конакова состоялся в Ухте. Одной из первых книг, повлиявших на будущего писателя, стала «Антология русского футуризма». В девятом классе на него произвели большое впечатление стихи Велимира Хлебникова, Алексея Кручёныхⓘ, Владимира Маяковского — они резко отличались от школьной классики наподобие Александра Пушкина или Афанасия Фета. Это стало импульсом интереса к литературе.
ⓘ
Велимир Хлебников — русский поэт и прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда. Входил в число основоположников русского футуризма. Алексей Кручёных — русский поэт-футурист, художник, теоретик стиха, критик. Ввёл в поэзию заумь — абстрактный, беспредметный язык, очищенный от «житейской грязи».
Велимир Хлебников — русский поэт и прозаик, один из крупнейших деятелей русского авангарда. Входил в число основоположников русского футуризма. Алексей Кручёных — русский поэт-футурист, художник, теоретик стиха, критик. Ввёл в поэзию заумь — абстрактный, беспредметный язык, очищенный от «житейской грязи».
Конакова тянуло к новизне и авангарду с детства. Он вспоминает, как ходил в школу, прицепив к одежде прищепки. Однажды даже нашёл на «толкучке» — рынке с подержанными вещами — жёлтую кофту, как у Маяковского. «Я был тогда низенький и совсем на него не похож, — смеётся Конаков, — но старался передать дух. Мне удавалось создавать атмосферу поэтического скандала. Хотя эта игра в школе провинциального города смотрелась довольно жалко».
Конаков признаётся: его творчество во многом сформировалось под влиянием Ухты — города, окружённого тайгой, занесённого снегом, с редкими, но завораживающими запусками ракет с космодрома Плесецк, с северным сиянием и странными огнями в небе. Всё это рождало у подростка ощущение чудесного, почти потустороннего.
Позднесоветские журналы подливали масла в огонь: снежные люди, НЛО, биополя — всё это казалось не просто фантастикой, а частью повседневной жизни. Этот опыт вдохновил Конакова на создание книги-исследования «Убывающий мир: истории „невероятного“ в позднем СССР» — рассказа о том, как в рациональной стране миллионы верили в летающие тарелки, экстрасенсов и другие загадки.
Конаков признаётся: его творчество во многом сформировалось под влиянием Ухты — города, окружённого тайгой, занесённого снегом, с редкими, но завораживающими запусками ракет с космодрома Плесецк, с северным сиянием и странными огнями в небе. Всё это рождало у подростка ощущение чудесного, почти потустороннего.
Позднесоветские журналы подливали масла в огонь: снежные люди, НЛО, биополя — всё это казалось не просто фантастикой, а частью повседневной жизни. Этот опыт вдохновил Конакова на создание книги-исследования «Убывающий мир: истории „невероятного“ в позднем СССР» — рассказа о том, как в рациональной стране миллионы верили в летающие тарелки, экстрасенсов и другие загадки.
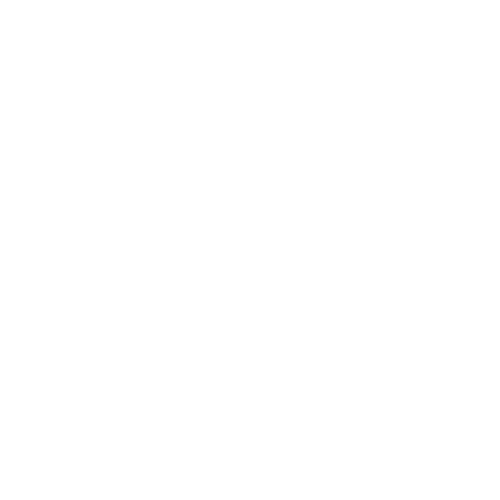
Алексей на заседании уфологического общества СПб, Обводный канал, 2023 год.
Фото: личный архив Алексея Конакова
Фото: личный архив Алексея Конакова
Книжный выбор Алексея определялся «репертуаром» местной библиотеки. В семье Алексея изучали научную литературу, выписывали журналы и играли в шахматы. Серьёзным соперником Конаков считал дедушку. «Будучи мальчиком шести лет, я горько плакал, когда проигрывал», — с улыбкой вспоминает Алексей.
В один момент интерес к шахматам угас, но позже вернулся благодаря прессе. Родители Алексея хранили подшивку журнала «Наука и жизнь» за 70−80-е годы. Почти в каждом номере была шахматная рубрика с описанием стратегий и манёвров. Воспитанный «в духе советского милитаризма», играя в «Зарницу», «Парад Победы» и «войнушку», он воспринимал шахматы как интеллектуальную битву. Примерно через год чтений Конаков решил заняться делом всерьёз — вступил в шахматный клуб. Там он провёл два-три года до переезда. Этот период Конаков вспоминает как один из самых светлых в жизни.
В один момент интерес к шахматам угас, но позже вернулся благодаря прессе. Родители Алексея хранили подшивку журнала «Наука и жизнь» за 70−80-е годы. Почти в каждом номере была шахматная рубрика с описанием стратегий и манёвров. Воспитанный «в духе советского милитаризма», играя в «Зарницу», «Парад Победы» и «войнушку», он воспринимал шахматы как интеллектуальную битву. Примерно через год чтений Конаков решил заняться делом всерьёз — вступил в шахматный клуб. Там он провёл два-три года до переезда. Этот период Конаков вспоминает как один из самых светлых в жизни.
“
Захватывала сама игра, процесс, когда вы движетесь сквозь игру, узнаёте какие-то вещи, развиваете навыки. У меня появились новые друзья. Меня даже отпускали со школы на время турниров. Шёл в красивый осенний парк на турнир, пока одноклассники учились. Воображал, что я — будущий Капабланка.
Конаков считает, что если бы не уехал из Ухты, то, возможно, продолжил бы ходить в клуб. В Санкт-Петербурге шахматы отошли на второй план. Многие годы ему хотелось вернуть «чувство детского восторга». Его Алексей реанимирует позже в романе «Табия тридцать два».
Миттельшпиль
Отрочество и юность позади. Впереди — миттельшпиль. Начиналась эта литературная партия, как у Гоголя, с неудачи. Алексей поступил в Санкт-Петербургский политех и, будучи увлечённым поэзией, сразу направился в «толстые» журналы «Звезда» и «Нева». Стихи не приняли — сказали, что они слабы. После короткого разочарования Конаков вошёл в литературу с другой стороны — стал критиком. В том числе он хотел разобраться в современной поэзии.
По мнению Конакова, сегодня критика — один из самых простых входов в литературу.
По мнению Конакова, сегодня критика — один из самых простых входов в литературу.
“
Насколько литературные институции не хотят новых поэтов, настолько же сильно они хотят новых критиков. Все хотят читать аналитические статьи. Со временем я почувствовал вкус именно в этой стезе.
По словам Конакова, в работе критика важны внимание к тексту, желание понять, почему книга вызывает те или иные впечатления, а также минимальная культурная осведомлённость. «Лучший способ учиться — читать работы других литературных критиков», — отмечает он. Алексея впечатлили книги «Расставание с нарциссом» и «Памяти пафоса» российского писателя и эссеиста Александра Гольдштейна.
«Он [Гольдштейн] аналитические тексты писал лучше, чем художественные. На меня сильнее всего повлияли его критические мысли: сложные, почти барочные тексты с красивыми метафорами и скрытыми цитатами, объединённые глубокой культурной аналитикой… У Гольдштейна я узнал об Евгении Харитоновеⓘ и других андеграундных фигурах. Обучение строится через подражание: пытаешься писать в похожем стиле о том, что тебя интересует», — рассказывает Конаков.
ⓘ
Евгений Харитонов — писатель, деятель андеграунда, поэт, драматург и режиссёр.
Евгений Харитонов — писатель, деятель андеграунда, поэт, драматург и режиссёр.
Сначала он писал тексты «в стол», потом начал отправлять в небольшие журналы, например, красноярский «День и ночь». Однажды Алексей принёс статью о Борисе Рыжемⓘ в московское «Знамя» — несколько наблюдений о стихах и интертекстах, что тогда было «очень модно».
ⓘ
Борис Рыжий — уральский поэт. Один из символов эпохи «смутного» времени 1990-х, лауреат литературных премий «Антибукер» и «Северная Пальмира».
Борис Рыжий — уральский поэт. Один из символов эпохи «смутного» времени 1990-х, лауреат литературных премий «Антибукер» и «Северная Пальмира».
«Важно понимать контекст издания: для „Урала“ интересны уральские авторы, для „Дня и ночи“ — красноярские темы. Статью о Борисе Рыжем я отнёс в „Знамя“, где его ценят и помнят. Начинающему критику стоит учитывать нюансы и проявлять искренний интерес к предмету — это важнее формальностей и ошибок, которые всегда простят, если видна увлечённость», — считает Конаков.
Постепенно Алексей перешёл от критики к художественной прозе — путь занял более десяти лет. Первый роман о студенте в петербургском общежитии Конаков пытался написать ещё в 18 лет. Алексея хватило на пару страниц: «не было ритма, темпа, дыхания». Тогда он обратился к коротким текстам. Со временем «мысли росли», материалы становились длиннее. Идея создания «Табии тридцать два» возникла ещё в середине 2010-х, когда Конаков вращался в авангардной среде Петербурга, связанной с альманахом «Транслит»ⓘ.
ⓘ
«Транслит» — российский литературно-критический журнал, издаётся с 2005 года в Санкт-Петербурге. Бессменный редактор журнала — поэт и критик Павел Арсеньев.
«Транслит» — российский литературно-критический журнал, издаётся с 2005 года в Санкт-Петербурге. Бессменный редактор журнала — поэт и критик Павел Арсеньев.

Конаков на дискуссии альманаха «Транслит» об андеграундной литературе в Александринском театре, 2016 год. Фото: личный архив Алексея Конакова
В журнале публиковали экспериментальные тексты и обсуждали теорию: от Жана Рансьера до Ролана Бартаⓘ. Конаков задумался: может ли он, автор-теоретик, написать что-то доступное массовому читателю?
Повод появился в 2022 году, на фоне дискуссий об «отмене» и «виновности» русской литературы, якобы формирующей имперское сознание. Конаков также вдохновился статьями гроссмейстера Владимира Крамникаⓘ об угрозе «ничейной смерти шахмат». Приступил к написанию романа с мыслью: что произойдёт, если русскую литературу действительно отменить?
Повод появился в 2022 году, на фоне дискуссий об «отмене» и «виновности» русской литературы, якобы формирующей имперское сознание. Конаков также вдохновился статьями гроссмейстера Владимира Крамникаⓘ об угрозе «ничейной смерти шахмат». Приступил к написанию романа с мыслью: что произойдёт, если русскую литературу действительно отменить?
ⓘ
Жак Рансьер — французский философ и политический теоретик. Ролан Барт — французский философ, литературовед, представитель структурализма и постструктурализма. Одна из центральных фигур теории фотографии.
ⓘ
Российский шахматист Владимир Крамник считает, что доминирование результата «ничья» в состязаниях высокого уровня может негативно сказаться на интересе к игре.
Жак Рансьер — французский философ и политический теоретик. Ролан Барт — французский философ, литературовед, представитель структурализма и постструктурализма. Одна из центральных фигур теории фотографии.
ⓘ
Российский шахматист Владимир Крамник считает, что доминирование результата «ничья» в состязаниях высокого уровня может негативно сказаться на интересе к игре.
“
Эта книга [„Табия тридцать два“] о том, как работает идеология, как она влияет на людей. Мы думаем, что есть что-то исконное, наше, естественное. А оказывается, всё придумано, и не очень давно… Шахматы я всегда любил. Мне хотелось рассказать читателям, какая это богатая, интересная вселенная. Даже не игровая, а культурная. Потому что там много каких-то исторических и филологических сюжетов, а также просто анекдотов.
Алексей Конаков отмечает, что в «классических» книгах о шахматах — у Владимира Набокова, Стефана Цвейга, Ильи Ильфа и Евгения Петрова — мало игровой конкретики, что разочаровывает. Он решил восполнить пробел. Роман выстроен по логике шахматной партии: медленное начало как дебют, затем тягучая середина с манёврами и странными эпизодами и стремительная развязка как внезапный мат. Такой ритм, отмечает писатель, удивил читателей.
Конаков задумал роман «Табия тридцать два» как филологический эксперимент. Он написал его подобно Леонарду Эйлеруⓘ — «инженерно», с логикой и расчётом. Идея проста: если меняется реальность, то же должно случиться с языком. Вместо «О Господи» герои говорят «Каисса». «Какая нелепость» превращается в «бонклауд», а выражение «от А до Я» заменяют на «от А до H»ⓘ.
Конаков задумал роман «Табия тридцать два» как филологический эксперимент. Он написал его подобно Леонарду Эйлеруⓘ — «инженерно», с логикой и расчётом. Идея проста: если меняется реальность, то же должно случиться с языком. Вместо «О Господи» герои говорят «Каисса». «Какая нелепость» превращается в «бонклауд», а выражение «от А до Я» заменяют на «от А до H»ⓘ.
ⓘ
Леонард Эйлер — швейцарский математик, механик, физик и астроном. Один из крупнейших учёных XVIII века.
ⓘ
Каисса — фракийская дриада, которую считают богиней шахмат. Бонклауд — считается «шуточным» дебютом, где на втором ходу двигают вперёд короля. «От А до H» — шахматная нотация — система условных обозначений, которую используют для записи ходов в партии или положения фигур на доске.
Леонард Эйлер — швейцарский математик, механик, физик и астроном. Один из крупнейших учёных XVIII века.
ⓘ
Каисса — фракийская дриада, которую считают богиней шахмат. Бонклауд — считается «шуточным» дебютом, где на втором ходу двигают вперёд короля. «От А до H» — шахматная нотация — система условных обозначений, которую используют для записи ходов в партии или положения фигур на доске.
Суть эксперимента — показать, как идеология проникает в речь и как язык формирует мышление. За основу Конаков взял классический жанр — роман, но добавил туда элементы фантастики и детектива, а также поместил действие в 2080-е. «Чтобы идеологические сдвиги стали восприниматься как норма, нужно около двух поколений. С родителями мы ещё находимся в диалоге, а с бабушками и дедушками — уже нет. Поэтому, начиная с 2022 года, я прибавил 50 с лишним лет — за это время люди успеют забыть прошлое и принять новый мир как естественный и неизменный», — поясняет автор.
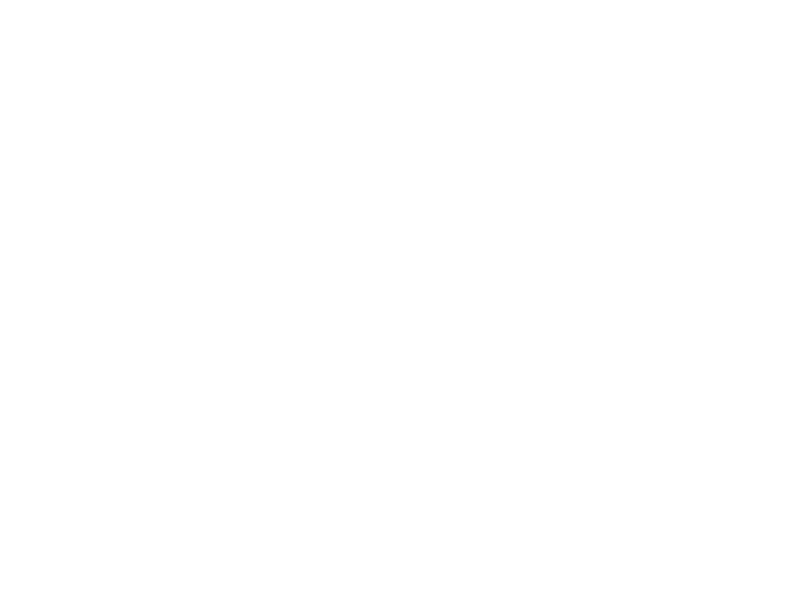
Алексей в процессе работы над «Табией тридцать два». 31 октября 2023 года. Фото: личный архив Алексея Конакова
Конаков не считает себя профессиональным писателем, так как зарабатывает на жизнь будучи инженером-гидроэнергетиком на одном из предприятий в Санкт-Петербурге. Литературные и исследовательские опыты он проводит в свободное время. Образ писателя и вовсе вызывает отторжение. По его мнению, это либо советский автор-конъюнктурщик с дачей в Переделкине, либо выпускник школы креативного письма, влюблённый не в литературу, а в «образ самого себя как писателя».
“
Я — инженер, который в свободное время занимается словесностью.
Эндшпиль
В шахматах так называют завершение партии, но «игра» Алексея Конакова продолжается. Из ближайших проектов — книга-исследование позднесоветской литературы, в центре которой окажутся малоизвестные, но яркие фигуры. Например, Леон Богданов — писатель, который наблюдал за погодой, землетрясениями и чаепитиями, делая пометки в тетради. Его тексты публиковал самиздатовский журнал «Часы». Ещё один герой — астрофизик Викторий Шварцман, мечтающий найти сигналы внеземных цивилизаций. «Эти персонажи, на первый взгляд разрозненные, на самом деле связаны духом времени — тем, что я называю „странным социализмом“. Исследование как раз об этом», — говорит автор.
В отдалённой перспективе у Алексея — идея написать кулинарную книгу о супах: «У нас плохо понимают, что такое суп, как его готовить и зачем он вообще нужен. Я люблю кулинарные книги, особенно старые, — в них есть и стиль, и история, и культура. Хочется возродить жанр и вернуть ему литературную глубину, которой не хватает современным утилитарным изданиям», — рассказывает Алексей.
В свободное от работы время Конаков жонглирует. Для Алексея это не только цирковое искусство, но и математическое действие, «источник глубоких смыслов и сюжетов». «Если вы человек, склонный к тревожности или дефициту внимания, то попробуйте научиться жонглировать простейшую фигуру — каскад тремя шарами. Это успокоит и стабилизирует психику», — отмечает он.
Алексей начал жонглировать из любопытства ещё в студенчестве, когда материалов и учебных пособий было немного. Позже узнал о разнообразных фигурах и комбинациях, которые можно менять с помощью рук, ног, головы и шеи. «Это чистая математика, напоминающая танец или фокус. Хотя сейчас сложно найти свободное время, жонглирование — отличный и доступный способ отвлечься и развиться», — говорит Конаков.
В последнее время Алексей вернулся к традиционным литературным формам: «С возрастом — мне почти 40 — стал ценить классические романы, которые дают ощущение уюта и надёжности. Это, думаю, проявление „старческого“ темперамента в отличие от молодости, которая смеётся над стабильностью и традициями. Раньше я читал только авангард и эксперимент, теперь же классика занимает всё больше места в моих интересах».
По мнению Конакова, сегодня ситуация с жанрами и формами литературы неоднозначна: одни считают роман актуальным, другие — устаревшим и призывают к гибридным формам и экспериментам. Алексею это напоминает переход к импрессионизму в живописи после изобретения фотографии. Тогда реализм утратил смысл, и художники сосредоточились на цвете, форме и фактуре.
По его мнению, литература находится в аналогичной точке. Простое сочинение романа уже недостаточно: нейросети справятся с этим лучше и быстрее: «Нейросеть — талантливый имитатор, она повторяет уже существующее и пока неспособна на настоящие филологические эксперименты или новое слово. Поэтому она превосходит большинство писателей, работающих по шаблонам, но не сможет превзойти тех, кто создаёт нечто новое на уровне языка и формы».
По мнению Конакова, автор текстов должен экспериментировать со стилем, даже если пишет для широкой аудитории.
В отдалённой перспективе у Алексея — идея написать кулинарную книгу о супах: «У нас плохо понимают, что такое суп, как его готовить и зачем он вообще нужен. Я люблю кулинарные книги, особенно старые, — в них есть и стиль, и история, и культура. Хочется возродить жанр и вернуть ему литературную глубину, которой не хватает современным утилитарным изданиям», — рассказывает Алексей.
В свободное от работы время Конаков жонглирует. Для Алексея это не только цирковое искусство, но и математическое действие, «источник глубоких смыслов и сюжетов». «Если вы человек, склонный к тревожности или дефициту внимания, то попробуйте научиться жонглировать простейшую фигуру — каскад тремя шарами. Это успокоит и стабилизирует психику», — отмечает он.
Алексей начал жонглировать из любопытства ещё в студенчестве, когда материалов и учебных пособий было немного. Позже узнал о разнообразных фигурах и комбинациях, которые можно менять с помощью рук, ног, головы и шеи. «Это чистая математика, напоминающая танец или фокус. Хотя сейчас сложно найти свободное время, жонглирование — отличный и доступный способ отвлечься и развиться», — говорит Конаков.
В последнее время Алексей вернулся к традиционным литературным формам: «С возрастом — мне почти 40 — стал ценить классические романы, которые дают ощущение уюта и надёжности. Это, думаю, проявление „старческого“ темперамента в отличие от молодости, которая смеётся над стабильностью и традициями. Раньше я читал только авангард и эксперимент, теперь же классика занимает всё больше места в моих интересах».
По мнению Конакова, сегодня ситуация с жанрами и формами литературы неоднозначна: одни считают роман актуальным, другие — устаревшим и призывают к гибридным формам и экспериментам. Алексею это напоминает переход к импрессионизму в живописи после изобретения фотографии. Тогда реализм утратил смысл, и художники сосредоточились на цвете, форме и фактуре.
По его мнению, литература находится в аналогичной точке. Простое сочинение романа уже недостаточно: нейросети справятся с этим лучше и быстрее: «Нейросеть — талантливый имитатор, она повторяет уже существующее и пока неспособна на настоящие филологические эксперименты или новое слово. Поэтому она превосходит большинство писателей, работающих по шаблонам, но не сможет превзойти тех, кто создаёт нечто новое на уровне языка и формы».
По мнению Конакова, автор текстов должен экспериментировать со стилем, даже если пишет для широкой аудитории.
“
Литература должна сделать какой-то кульбит и начать исследовать вещи, которые нейросетка исследовать не может. Какие-то более тонкие коллизии языка или чувств, которые ещё не были выявлены. Изобретать новые языки, слова, способы сочетания слов, решать проблему синтаксиса. Литература либо будет экспериментальной, либо её не будет вовсе.
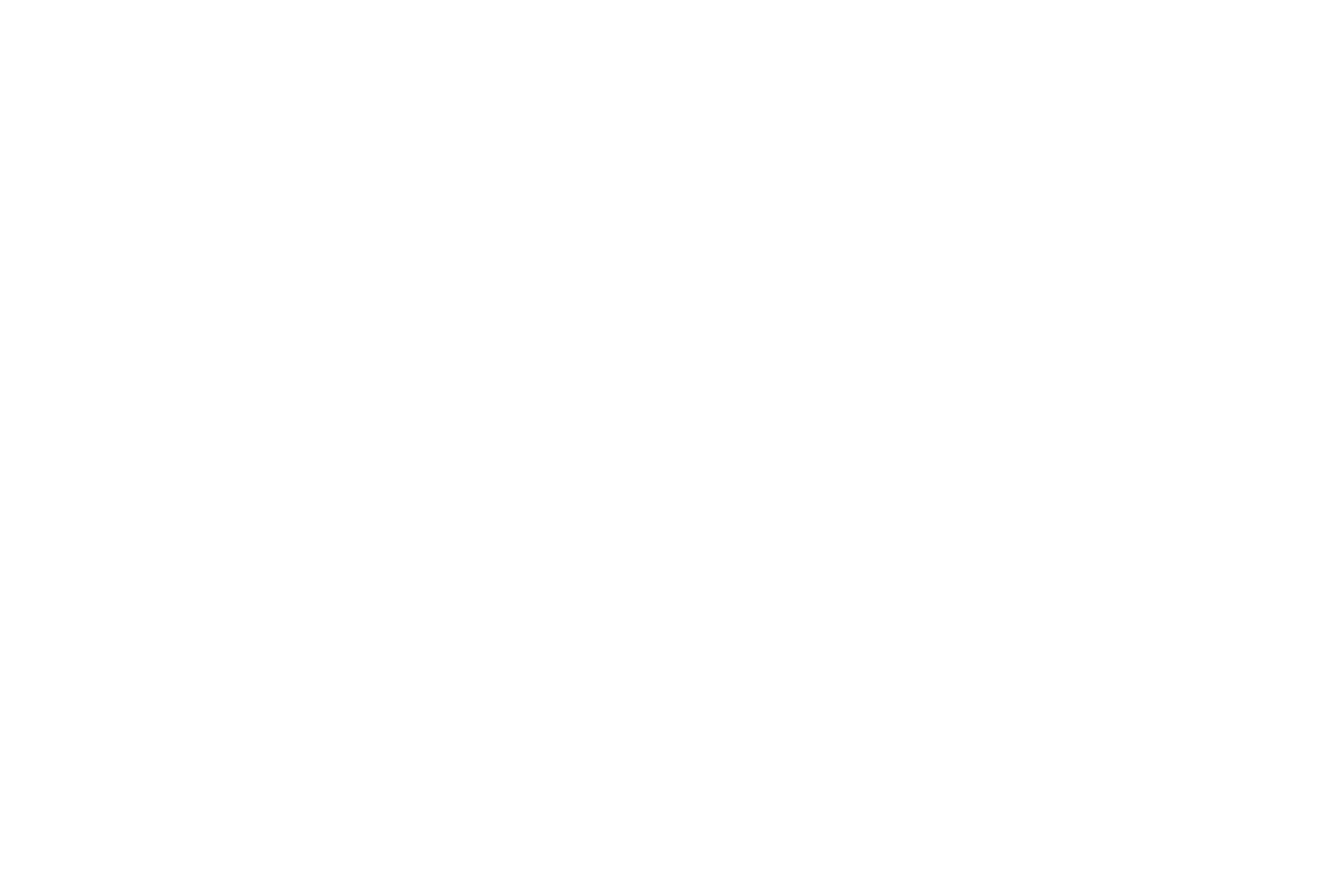
Алексей Конаков участвовал в семинаре «Литоруб» на фестивале искусства и чтения «ТОМ III» в Томске. Эксперты разбирали работы студентов факультетов Томского госуниверситета и местных авторов. Фото: news.tsu.ru
На критику Алексей смотрит с пессимизмом. По его мнению, раньше она поднимала важные темы, обходя цензуру и запреты. Сейчас же литература уступает другим источникам информации: видео, соцсетям, играм. Критике остаётся меньше пространства, и она рискует превратиться в короткие рекомендательные рецензии.
«Глубокие политические и философские обсуждения литературы, вероятно, перейдут к философам, которые умеют внимательно читать и анализировать произведения, как, например, Рене Жирарⓘ», — считает Конаков.
«Глубокие политические и философские обсуждения литературы, вероятно, перейдут к философам, которые умеют внимательно читать и анализировать произведения, как, например, Рене Жирарⓘ», — считает Конаков.
ⓘ
Рене Жирар — французский философ, культуролог, литературовед. Разработал концепцию «фундаментальной антропологии», согласно которой акт жертвоприношения лежит в основе культуры и социума.
Рене Жирар — французский философ, культуролог, литературовед. Разработал концепцию «фундаментальной антропологии», согласно которой акт жертвоприношения лежит в основе культуры и социума.
Конаков считает, что сегодня не существует единого мнения о критике. Одни считают, что обратная связь должна быть жёсткой — чрезмерная похвала приведёт к застою. По мнению других, нужно поддерживать и вдохновлять авторов, а суровая критика станет демотиватором.
Алексей отмечает, что рецензенту полезно находиться вне литературных кругов, чтобы избежать эмоциональной предвзятости из-за личных связей. Лучше общаться с площадками в онлайн-формате и читать авторов дистанционно.
Алексей отмечает, что рецензенту полезно находиться вне литературных кругов, чтобы избежать эмоциональной предвзятости из-за личных связей. Лучше общаться с площадками в онлайн-формате и читать авторов дистанционно.
“
Традиционная критика в духе Виссариона Белинского, Николая Добролюбова или даже Корнея Чуковского, мне кажется, будет постепенно усыхать, как шагреневая кожа. В литературном сегменте она сведётся до микрорецензий, выполняющих только навигационную функцию читателя. А может, даже и этого не будет. Читатель будет просить ускоренный GPT-чат, чтобы он рассказал, о чём произведение, стоит ли его читать, какие сильные и слабые стороны.
Читайте также
Разбор
Что такое метамодернизм и существует ли он в русской литературе
Истории
Марина Кочан — о том, как превратить боль в романе и не сгореть
Рецензии
Путешествие в мир гения: как Гузель Яхина в романе «Эйзен» исследует сложные отношения искусства, власти и человеческой судьбы
